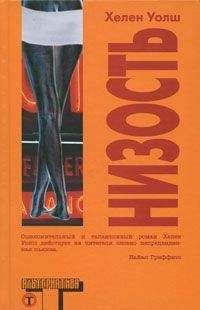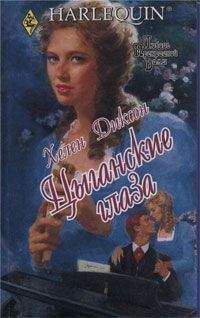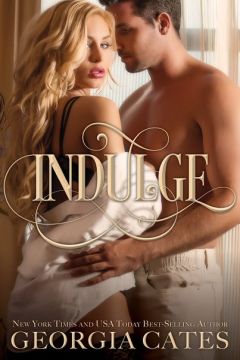Я влетаю в аудиторию, и меня подмывает выкрикнуть что-нибудь язвительное и остроумное, но я онемела. Вижу его, мужчину, кого все боготворят, и все, на что я способна, это рассмеяться над ним. А потом я реву, взахлеб, выбегаю оттуда и бегу, бегу. Папа бежит мне вдогонку, закатав рукава, и он тоже всхлипывает. Он поймал меня и пытается помочь мне, но тащит меня за руку в неправильную сторону, и все кричат на своем шифрованном языке. Мы на улице, и он прижал меня к стенке, а я разоряюсь на него и сообщаю ему, что все знаю про тетю Мо, чье лицо я больше не в состоянии вспомнить, а потом я заявляю ему, что он ненормальный, злой и жалкий, а потом я говорю, что люблю его, хоть и пришла сюда сказать ему, что я его ненавижу, и вдруг он отшатывается назад, и все больше и больше студентов высыпают на траву. У него делается совсем смятое лицо, вроде скомканной газеты, и он съеживается, или, может быть, это я отхожу дальше и начинается дождь. Воздух снова пахнет промышленностью, промозглый и забродивший, а я, спотыкаясь, выхожу за пределы своего ареала на совершенно полностью новый перекресток. Я бегу, отчаянно стремясь убежать от этого. Бегу, очертя голову, в центр города, вдыхая полные легкие сумасшедшего ночного воздуха, в голове грохочут голоса и мелькают злые пьяные рожи блядей и проституток. Бегу, бегу и бегу. Мною движет нарастающий страх.
Милли
Я просыпаюсь, замерзшая и потерянная от шипения и брызганья дождя. У меня слиплись веки, а левый бок отлежался во сне. Я лежу, свернувшись клубком, на какой-то сырой жесткой поверхности, заиндевевшая до костей. Первая мысль: свалилась и заснула в кухне на полу с открытым окном, но шорох мимо проехавшей машины сообщает мне, что я ошиблась. Пиздец. Я на улице. Как, ей-богу…
С трудом открываю один глаз и, моргая, возвращаю себе способность видеть. Темно, но я различаю силуэты. Я лежу на скамейке в травянистом, если так можно выразиться, парке, по периметру он очерчен железной оградой и худосочными деревьями. За ним раскинулась вереница великолепных георгианских домов. Здесь все настолько знакомое — и настолько-настолько чужое. Костяшками пальцев я выгребаю песчаные соринки сна из глаз и спускаю ноги на землю. Сквер изворачивается и заплывает мне в поле зрения, и отвратная паника опять цепляет меня. Шея одеревенела и зудит, горло зудит какой-то омерзительной заразой. Я кашляю, отхаркиваюсь и лезу в карман за сигаретами, но нахожу лишь пустую и промокшую пачку.
Вдруг пустоту вспарывает голос.
— Спящая красавица. Просыпается, — говорит он. Резко оборачиваюсь, готовая дать отпор, меня шатает вбок, и я глухо шлепаюсь на землю. Растушеванный дождевой завесой, молодой парень в парке с накинутым капюшоном, приближается ко мне с кружкой в руках.
— Прости, — говорит он. — Не хотел тебя напугать, ничего такого.
— Какого хера ты вот так вот ко мне подкрадываешься! — взвизгиваю я.
Отодвигаюсь назад и пробую встать. Сотня болей и судорог подгибает мне коленки, возвращая меня обратно на землю. Незнакомец откидывает капюшон. По лицу его змеится усмешка.
— Подумал, может, ты попьешь горяченького, типа.
Он опускается на корточки передо мной и протягивает мне кружку, пахнущую «Сандей-диннер».
— Тебе чего надо?
Я крайне подозрительно кошусь на питье, и его лицо складывается в еще одну усмешку.
— Вот, — произносит он, берет кружку и отпивает из нее. — Бояться совершенно нечего.
Я опускаю голову к бульону и вдыхаю его тепло. Поднимается пар, нежно обжигающий мне губы.
— Я вот еще чего те купил, — говорит он, извлекая батончик «Марса». — Знаю, с «Боврилом» это не особо сочетается, да?
— Ты что такое — передвижная кондитерская или как? Его глаза подмигивают и заигрывают со мной. Отпиваю раз, другой, затем даю волю своему сосущему голоду и осушаю кружку в несколько жадных глотков.
— Где я, кстати? — спрашиваю я, возвращая кружку. — Чего-то не узнаю местность.
— Небольшой оригинальный сквер, расположенный в нескольких минутах ходьбы от центра города, — выдает он на королевском английском. — Стэн, кстати, — добавляет он, протягивая тонкую крепкую ладонь. — Я здесь остановился в «Эмбасси». Сначала увидел, как ты шебуршилась по парку и кричала голубям всякую похабщину.
Он останавливается, ожидая какой-нибудь реакции, но мое лицо сохраняет отсутствующее выражение.
— Я ходил в город, вернулся, а ты рухнула на скамейку. Я тебя задолбался будить. Жалко, если бы ты схватила воспаление легких, типа — особенно если у меня на крыльце.
Мне удается улыбнуться. Он отдает мне шоколадку, нагревшуюся и размякшую у него в кармане. Сдираю обертку и откусываю от липкого батончика столько, сколько влезает мне в рот. Меня сразу же впирает с сахара, отрезвляя и обостряя зрение.
— Тебя, наверно, трясет с жуткого бодуна. Парк воняет, как ниибацца кабак.
Я игнорирую его и продолжаю трескать шоколадку.
— У меня сперва была мысль сходить взять напрокат видеокамеру, когда я увидел, как ты скакала. Давно таких приколов не видел. Ты что, чем-то упоролась или чего?
— Сигарета есть?
Он сует руку в карман, достает пачку «Регал» и коробок спичек, пытается произвести огонь. После того, как пятую отсыревшую спичку задуло ветром, он исчезает вместе с сигаретой под капюшоном и появляется с двумя прикуренными сигами.
— Ну, и с чего все началось? Экзамен не сдала или чего? Я приподнимаю бровь и делаю глубокую долгую затяжку.
— Я что, похожа на студентку?
— Ну, не особо, но все-таки ты не похожа на тех девочек, что обычно валяются невменяемые на скамейках в парке.
— Я была не невменяемая — я спала. И печали я тоже не топила. Я отмечала.
— Отмечала, да? К тому же в одиночестве. Меня прикалывает твой стиль. И чего ж ты отмечала, позвольте спросить?
Я пожимаю плечами.
— Новую жизнь.
Он запрокидывает голову и гогочет так, словно ничего смешнее ему в жизни не доводилось слышать. Я бросаю на него оторопевший взгляд, но не могу удержаться и не посмеяться с ним за компанию. Он мне нравится. Беру его за руку и отодвигаю рукав. Его часы заснули еще в полдень.
— Уже поздно, — говорит он, смахивая одинокую слезинку веселья. — А ты совсем соплями захлебываешься.
— Простыла, — огрызаюсь я.
— Ты хуже чем простынешь, если не пойдешь и не обсохнешь.
— Куда пойдешь?
Он кивает на «Эмбасси» — хостел через дорогу.
— Заведение приятное. И к тому же вполне дешевое. Он встает и помогает мне подняться на ноги.
— Потопали, значит?
Ничего не обещающим движением я пожимаю плечами, а он это воспринимает как «да». Через парк мы движемся молча. У ворот он останавливается и показывает на один из белых домов. Прямо над его головой льет свет полумесяц. У него восхитительный, почти ангельский вид, и тут же на месте я понимаю, что сумею оправиться от своей болячки.
— Вон, — говорит он по-детски, точно это его собственный дом. — Вот «Эмбасси».
Белый каменный фасад, большая красная дверь и изображенный над нею знак — все они запечатлены в каком-то далеком воспоминании, которое мне никак не удается ухватить. Примыкающие один к другому дома вполне достойны принимать мафиози или барристеров, но «Эмбасси» кажется непринужденным и гостеприимным, навевающим образы усталых путешественников, собравшихся тесной компанией за столом и допоздна травящих байки. Секунду назад я была готова насладиться тем теплом и уютом, что способно подарить подобное место, но вдруг я ощущаю себя снова сильной.
— Слушай — у меня есть одно дело, — говорю я, понимая, что голос мой звучит очень виновато. — Спасибо, что спас меня, и прочее, но на самом деле мне, правда, нужно домой.
— Те решать, — отвечает он. На лице его вспыхивает секундное разочарование. — Хош, я тебя провожу до автобуса или еще чего?
— Не — безопасно, как у тебя дома.
— То есть теперь ты врубилась, где находишься?
— Угу-угу. Центр красных фонарей, граница Токстифа. Где-то через час эти улицы будут запружены проститутками, сутенерами и крэковыми банчилами.
Он разевает рот. Я смеюсь над его выпученными глазами.
— Ну, спасибо за информацию о местности.
— И чтоб ты знал, сходить налево здесь стоит от пятнадцати до двадцати.
— Серьезно, что ли? Я вчера вечером платил десять с индийским массажем головы за бесплатно.
Я игриво приподнимаю бровь, и мы оба заливаемся самозабвенным смехом.
— Ладно, ты поосторожнее, Милли. Рад был познакомиться.
— Я тоже. И спасибо. За попить.
Неуклюже его приобнимаю и ухожу со смутными ощущениями страха, силы и решимости. Я иду в сторону Собора, который, подобно луне, стоит словно символ постоянства в изменчивом движении ночи. Какой сарказм в том, что здание, излучающее такую красоту и святость, стягивает к себе такой порок и разврат. Сколько туристов, что стекаются к нему стадами, отвернулись бы, узнав, что он служит маяком для шлюх и их клиентов? Если бы они узнали, что этот самый кладбищенский двор был импровизированным борделем, где самый драгоценный акт человеческого общения становится объектом эксплуатации и капитализации — сведенный к бессмысленному обмену жидкостью и наличностью.