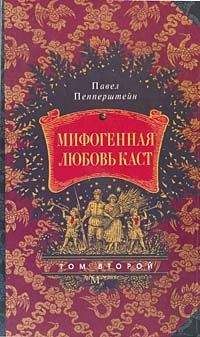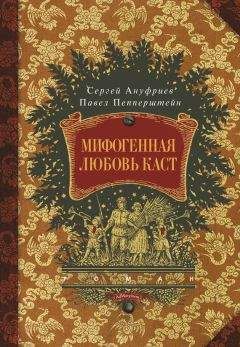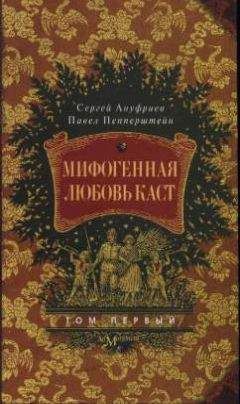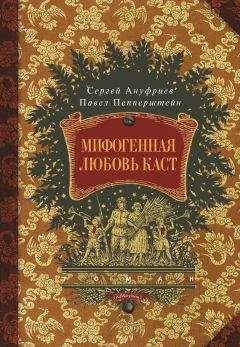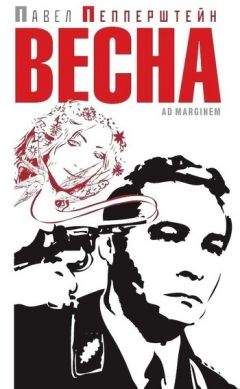Свечной огонек дрогнул и погас. Свеча догорела. Это совпало с тем мгновением, когда голос читавшего стихотворение умолк. Наступила тишина. В темноте и тишине трое неподвижно сидели вокруг круглого стола. Пауза длилась минут пять, не больше.
Наконец Джерри во тьме кашлянул и беспечно закинул ногу на ногу, так что слегка хрустнуло колено. Тут же по другую сторону стола вспыхнула зажигалка-гильза, осветив незнакомое лицо с папиросой. Там, где только что сидел вор-рецидивист, теперь прикуривал папиросу совершенно другой человек, с обычным, ничем не примечательным лицом. Потом зажигалка осветила еще одно лицо, не имеющее ничего общего с обликом Киры Радужневицкого. Это высветилось лицо старика — худое, высохшее, равнодушное, похожее на пустую кость. Зажигалка потухла, только огоньки двух папирос тлели в темноте.
— Вы кто такие? — спросил Джерри.
Ответил тот, что помоложе:
— Я Володька Дунаев. Я веду войну против блядской нежити, которая как гнилое говно выдавливается на нашу землю, а перед собой гонит стада озверелых кюхельбеккеров. Ты что думаешь — озверелые кюхельбеккеры сюда сами прут? Ни хуя подобного — их гнилое говно в спину толкает. Они идут, да и вместе с техникой, а за их спиной гнилое говно все сплошным блином покрывает — все наше, родное, все станции да полустаночки! Эх, стою на полустаночке в коротком полушалочке! Как тебя там… эй… Джерри, что ли? Странное имя у тебя. Ты что — американец? Союзник, что ли? Ну давай, союзничек, выпьем.
Дунаев поднялся с флягой в руке и провозгласил тост:
— За открытие Второго фронта!
Честно говоря, он был уже изрядно пьян. Они с Бессмертным глотнули спирту еще перед тем, как войти в эту старую, деревянную комнату. На Бессмертного алкоголь никак не действовал, он его пил как воду. А Дунаев… Дунаев иногда сильно пьянел с первого же глотка.
— Мне нельзя пить, — еле слышно сказал Джерри. — У меня… психиатрия… Аномальная реакция на алкоголь. Мне запретили врачи. К тому же я сегодня ничего не ел. Дайте закурить.
— Можно и закурить. Но сначала надо выпить. Этот спирт атаман Холеный настаивал на травах.. Зверобой, чабрец… В общем, сам знаешь, как травы называются. Выпей, милок, глоточек, а потом и закуришь. — Дунаев ласково протянул Радужневицкому флягу. Тот принял ее словно бы онемевшей рукой. Однако стоило ему поднести флягу ко рту, Дунаев подскочил к нему, сильно схватил за волосы и, запрокинув Радужневицкому голову назад, другой рукой вылил все содержимое фляги ему в рот.
Глаза Джерри вылезли из орбит, он вскочил, схватившись за горло, словно его полоснули бритвой, и так и застыл, покачиваясь.
— Грубо работаешь, Дунаев, — поморщился в темноте Бессмертный. — Чувствуется поручицкая школа. Тот так и остался, в сущности, офицеришкой. Так и несет от него казармой. А от тебя — партактивом.
— Зато от некоторых сильно несет дурдомом, — огрызнулся Дунаев. — Ничаво. Мы все здесь не сахарные. Мы войну воюем, а не друг к другу принюхиваемся. Принюхиваться после войны будем. Вот тогда со всеми разберемся — чем от кого несет.
— Это ты верно сказал — после войны разберемся, — равнодушно сказал Бессмертный и встал. Он подошел к окну, отодрал кусок светомаскировки. — Гроза, кажется, собирается.
— Это не гроза. Это немецкие бомбардировщики идут. Ишь гул какой — аж все трясется.
Но сразу же Дунаев понял, что этот тяжкий низкий гул, от которого в комнате действительно все тряслось, исходит не от немецких бомбардировщиков, а из тела Джерри Радужневицкого.
Лицо Джерри оделось легким светом. Глаза вытаращились, рот широко раскрылся. Язык мелко трепетал, как жало змеи. Гул поднимался из самой глубины его тела, заставляя все вокруг вибрировать. У Дунаева заломило в ушах.
— Ты чего, родной?! — испуганно заорал он. — Что ты?
Вместе с гулом, как это ни странно, пробивалась кусками какая-то горячая танцевальная музыка, кажется латиноамериканская. Джерри плавно развернулся вокруг своей оси, подняв одну ногу и согнув ее в колене. Затем сорвался с места и начал безумно носиться по комнате, сшибая предметы, одновременно срывая с себя одежду и с дикой силой разрывая ее на куски. Вскоре он был уже совершенно наг. Его странное белое тело казалось толстым, почти безволосым, если не считать спиралеобразных завитков на груди.
— АЙДА НА ВОЛГУ КУПАТЬСЯ! — пронесся по комнате его второй голос — сногсшибательный, сочный, нюансированный бас, способный поспорить с басом Шаляпина. В ту же секунду он с такой мощью ударил ладонью по стене, что образовалась пятиконечная вмятина. Джерри понесся по комнате в виртуозном залихватском танце.
— Ишь как тебя протырило!!! — восторженно заверещал Дунаев. — Воин, Воин рождается!!! — И он пошел тяжело отбивать «казачка», вертясь, ухая, выбрасывая ноги в сапогах, топая и еле-еле поспевая за белыми сверкающими пятками Джерри, которые, казалось, порхали в воздухе и отшлепывали по полу, как обезумевшие оладушки.
Чем-то Джерри напоминал сейчас Дунаеву мехового танцующего короля из сновидения, привидевшегося перед битвой за Москву. Только Джерри был голый, без меха, но он так же самозабвенно отдавался танцу, швыряя в его стремнины свое огромное тело на пружинистых узких ногах.
— КУПАТЬСЯ!!! — снова проревел Джерри и выломился в дверь. Дунаев и Бессмертный последовали за ним. И вот они уже стояли в истерзанном маленьком саду, примыкавшем к дому Радужневицких. На заброшенных грядках лежали грабли. Одним движением Джерри подхватил их с земли, словно зачерпнул из колодца воды, и стал со свистом вращать граблями над головой, выписывая в воздухе восьмерки, шары, восьмиконечные звезды, эллипсы… Лицо, на котором всполохом лежала сверкающая печать бешеной свободы, он запрокинул к ночным, грозовым небесам. Зарницы освещали его глаза, полные нечеловеческой любовью до краев.
В эти минуты Дунаев смотрел на него со смесью благоговения и родственной нежности. Он понимал, что вот таким — безудержным, бешеным, новорожденным — совсем недавно был и он сам, когда впервые почувствовал себя воином.
— МАМА! — вдруг заорал Джерри, глядя в небо. — МАМА! ДАВАЙ КУПАТЬСЯ!
Небо откликнулось отвесным, сплошным ливнем — таким же безудержным и диким, каким был сейчас Джерри.
Джерри закружился в потоках дождя, оглушительно крича от наслаждения и время от времени восклицая:
— ЦАРЮ! ЦАРЮ! ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ ПОЕТ И ВЕСЕЛИТИСЯ! ВЕСЕЛИТИСЯ ЦАРЮ НА РУСИ!
Затем он остановился и, словно впервые заметив Дунаева и Бессмертного, простодушно предложил:
— Ребята, давайте-ка на Волгу! Чего тут сохнуть? Искупнемся!
— До Волги далековато отсюда, — спокойно ответил Бессмертный. — Пока добежите, вас пристрелят как свинью, Андрей Васильевич. А отчего вам прямо в туче не искупаться? — Бессмертный указал пальцем в небо.
— Верно! — заорал Джерри. Он снова уставился в небо, затем оттолкнулся от земли пяткой и легко сиганул вверх, прорубая себе в воздухе невидимую тропу веселыми ударами граблей. Взлетели, немного поотстав, и Бессмертный с Дунаевым.
глава 3. Пятницы у Радных
После ареста Кирилла Андреевича Радужневицкого прежние члены кружка, как уже было сказано, перестали появляться по четвергам в домике на Малой Брюхановской. Там их заменила молодежь: чтения стихов, переведенных с иностранных языков, были вытеснены оттуда танцами, песнями под гитару и лодочными прогулками.
Тогда-то, по инициативе старика Фревельта, по прозвищу Дверь, было решено между несколькими наиболее преданными кружку людьми встречаться по пятницам на квартире Глеба Афанасьевича Радного и его жены Антонины Львовны Радной. Встречавшихся в доме Радных было всего шесть человек: супруги Радные, Фревельт, Ралдугин, и супруги Каменные — Арон и Ася. Все шестеро понимали, что их невинные филологические посиделки по пятницам легко могут обернуться для них смертью или же тюрьмой. Тем не менее продолжали встречаться.
Фанатиками они, естественно, не были: встречались скорее по привычке, чтобы доказать себе, что бояться не нужно, потому что и терять нечего. Фревельт и Ралдугин были очень старыми людьми и предпочитали окончить жизнь за приятной филологической беседой, не задумываясь о чекистах, а продолжая развивать те интересные для них темы, которые они начали обсуждать несколько десятков лет тому назад, будучи еще студентами Университета.
Что же касается Глеба Радного (он, как хозяин дома, рисковал больше других), то у него имелись свои причины игнорировать страх. Коротко говоря, этому человеку присуще было так называемое «влечение к смерти». Случай распространенный. С детства Радный любил гулять по кладбищам, сидеть на могилах. На могилах он любил есть, пить, даже спать (если дело было летом). Эти увлечения разделяла и его жена Антонина, которая была на двадцать два года старше самого Радного. Над дверью своего дома Радный укрепил дощечку, на которой ножом вырезал: