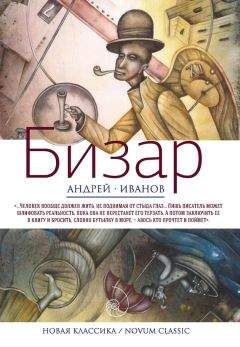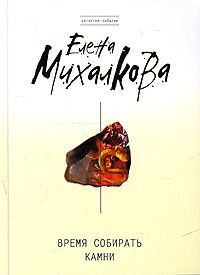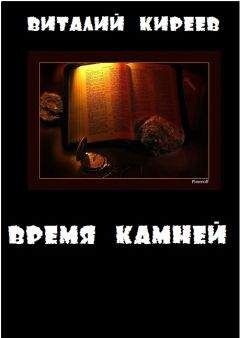Сюзи заметила, что я напряжен, что у меня странное лицо, начались вопросы: в чем дело?., что случилось?.. Я не знал, что сказать. Хотелось, чтоб меня оставили в покое, чтоб никто ни о чем не спрашивал, не тянул за ниточки, не писал мне писем… не вспоминал обо мне… никто!
Особенно сильно скрутило в китайском ресторане.
Там был китайский ресторан. В него ходили старики. Я наблюдал со скамейки. Ветхое здание, мутное стекло, выцветшее меню. Люди шли туда, как за старостью. Входили, чтобы оставить лет десять сразу. Я курил под деревом и поглядывал. По вечерам, когда зажигали свечки, из сумрака вырезались кругленькие столики, за которыми сидели печальные посетители. Старики… Они посматривали друг на друга, проверяя, кто пришел, а кто нет… Представляю, как для них это было важно. Пока ты можешь дотащиться до своего столика, ты в форме. Пока ты сидишь тут, пилишь свою сосиску, ты в строю.
Однажды не выдержал и вошел. С письмом, от которого по всему телу разбегались болезненные покалывания.
Клеенки на столиках. За стойкой старая китаянка. Взял блинчик и долго жевал. Старичку напротив поднесли ягермайстер. Он не торопился. Его руки тряслись. Они были сморщенные, как перчатки… как руки моей матери (больница, клейстер).
Стараясь забыть о письме, настойчиво думал о том, что эта опрятная китаянка в передничке с кружевами уже привыкла к этим мумиям. Привыкла им улыбаться. Изучила каждого. Знала, как перед кем наклониться, насколько громко с какой стороны сказать и что и как высветить на своей физиономии, а самое главное, насколько быстро или медленно все это проделать. Наверняка, она замечала, как они пропадали потихоньку. Наверняка она научилась не придавать этому значения. Наверняка она даже не думала об этом. Просто забывала. Да, так оно и было. Вот это настоящее забвение! Когда тебя так забывают… Тогда это уже всё! Вот бы меня так!
Все будет стерто. Все будет забыто. Всему приходит конец, – писала мать. На обломках старых домов строят новый громадный банк. Жизнь неумолимо жестока. Жестока и несправедлива…
Глядя исподлобья на дрожащие руки старика, я напряженно думал…
До нашего появления на этой убогой планете чертова Вселенная существовала целую вечность. После нас будет существовать столько же. И какое мне дело до каких-то старичков, пьющих ягермайстер в китайском ресторанчике Хольстебро? Зачем вообще их замечать? Какое отношение все это имеет ко мне? Зачем думать о том, что где-то от одиночества и тоски сходит с ума мать? Пуповину давно перерезали… А там все ноет… Тридцать лет ноет! Если жизнь неумолимо жестока, почему я не могу быть жестоким тоже? Жестоким и бессердечным. Я ведь часть жизни, один из живых организмов, действующий актер этого бродячего цирка. Так почему я не могу наплевать и забыть о матери, которая белкой в колесе вертится где-то там на отшибе Таллина, в старой, почти рухнувшей квартире… охотится на работы, как кошка на голубей?.. Почему я не могу заглушить этот стон? Откуда берется чувство вины? Почему мне кажется, что я жесток? Ведь я спасаю свою шкуру!
Как гипсовую форму, меня наполнила тяжесть, которая сжимала горло, не давала дышать, – я носил ее в себе, ощущая, как медленно она затвердевает, изменяя меня.
Не только внутри… Однажды, когда брился, заметил на своем лице странный оскал, присмотрелся… и вдруг перестал себя узнавать! Это был не я. В зеркале стоял отвратительный мужичок, такой подуставший хмырь, у которого черт знает что может быть в голове, он стоял там и пялился на меня – это был не я! Про таких говорят: «сосед», «квартирант», «гражданин», «субчик»…
Больше не подходил к зеркалу – было страшно; не мог есть, не мог пить, не мог курить, улыбаться, не слушал, что мне говорили, не чувствовал себя свободным и раскованным, когда меня рисовали. Сеансы стали мучением. Август обвалился ливнем. На неделю весь Юлланд заволокло туманом. Стало холодно и неуютно. В студии включали свет. Это было нестерпимо! Голый, я сидел на столе, в снопе электрического света, а за окном была серость, снаружи кто угодно мог меня рассматривать! Я был выставлен, как вещь на продажу!
Сюзи меня раздражала. Я злился на нее, хотя она ни в чем не была виновата. Мы поссорились; она думала, что я переменился из-за нее; она кричала, что знает, знает, знает, как это бывает, что не надо ей ничего, ничего не надо объяснять!.. И я не стал ничего объяснять – вернулся в лагерь.
– Она тебя старше на восемь лет, – успокаивал меня Хануман.
– Сюзи тут ни при чем, – говорил я, а в голове вертелось: все напрасно… все это напрасно…
Мы пили вино, дорогое легкое вино; Хануман разглагольствовал:
– Женщины… это ерунда! Не стоит им уделять так много места в своем сердце, Юдж, не говоря о голове. Зачем тебе гарем в голове? Надо с ними попроще. Раз-два и пошел дальше. Запомни, женщины – это хозяйственная часть человечества, физиологический тип, приспособленный для продления рода. Ничего больше… Причем заметь, чем больше они кричат о своих правах, о том, что они что-то собой представляют, тем агрессивней охотятся на мужиков. Это у них тактика такая. В Дании они совсем остервенели. Они настолько поверили в свою независимость от мужчин, что перестали в них нуждаться и быть похожими на женщин. Восточная Европа – вот место, где еще остаются нормальные бабы… Там еще уважают мужчин, а вообще… человечество скатывается в яму матриархата, и поверь мне – это будет тотальной тюрьмой! Тотальная тюрьма – вот что ожидает человечество в недалеком будущем. Впрочем, это не имеет значения, женщины все равно всегда будут охотиться на мужчин… Миром уже правят бабы… и деньги. А такая дурочка, как Сюзи… таких бесполезных телок знаешь сколько! Ты ничего не потерял. Сколько их у нас было, Юдж! Лучше вот послушай мою новую теорию. Холодная война не закончилась, Юдж! Она просто перешла в новую фазу – «деньги против человека». Советский Союз все-таки был идиотской утопией, там деньги не принимали всерьез, а напрасно. Деньги – это опасное изобретение. Хуже бактериологического оружия. Я выработал новую теорию, которую хочу проверить на практике. Слышь, Юдж? Я хочу проверить кое-что… Мишель станет моей лабораторной крысой! Хэ-ха-хо!
Я не слушал его: все, что он говорил, мне казалось просто бессмыслицей.
Так и не встретились. Сюзи нигде не было, ни в студии, ни дома. Побрел на точку. Шел по пешеходке и думал: пару месяцев назад мне здесь было хорошо, на самом деле хорошо, поэтому я поехал не в Ольборг, а именно сюда, даже не затем, чтобы встретиться с Сюзи, а затем, чтобы пройтись по этой же самой улице, где мне было легко и беззаботно. Я хотел понять, куда эта легкость улетучилась. Ведь я – это я; и город тот же.
Но нет, всё изменилось: и я, и город, – всё стало другим.
Но как?.. Когда?.. Почему?..
Город молчал. Статуи натягивали сети сумрака. Небо кемарило на крышах. Ветер перелистывал газету, перелистывал…
Я шел, передвигая своего черного двойника, как шахматную фигуру, из одной тусклой витрины в другую. Остановился. От речки веяло холодом.
Зачем я здесь? спросил я себя. Черт с ним, с гашишем… Кто так решил, что я должен этой ночью стоять и смотреть на свое отражение в этой чернильной витрине? И для чего?..
Фонарь моргнул юрким велосипедистом. Ничего не нащупав в себе, пошел дальше. На скамейке спал пьяный. Летели и не могли улететь шарики, привязанные к ветке невидимого дерева.
Лето прошло, подумал я. Еще одно лето моей жизни прошло.
У Мартина меня как-то неприветливо встретили. Там были гости. Пять или шесть человек курили большой кальян. Жрали пиццу и гоготали. Мартина не было. Пока Йене взвешивал, я, прислонившись плечом к стене, слушал. Какой-то незнакомый бородач рассказывал про тюрьму. Недавно вышел. Был полон впечатлений. Рассказывал, как о поездке на Бали. Даже показывал фотографии. Йене кивнул головой в сторону бородатого:
– Мне тоже скоро в тюрьму. Уже получил извещение. – Он сделал кислую мину, буркнул for satan![11] и добавил несколько крошек гашиша на весы.
Йене все лето был таким дерганым, говорил, что устал ждать, когда для него освободится место в тюрьме.
Я спросил, не видел ли он Сюзи. Йене сказал, что она куда-то уехала, она говорила куда, но он забыл.
– Впрочем, не имеет значения. Она укатила с каким-то стариканом. Он у нее уже две недели. Тебя давно не было… – Завернул гаш в фольгу, пересчитал деньги, вздохнул и опять заговорил про тюрьму. – Ждать тяжело, – говорил он. – Ладно бы сразу посадили. Живешь, дела делаешь, а срок висит где-то там, в неопределенном будущем… – Я качал головой понимающе. – По сути, срок начинается с момента оглашения приговора, – рассуждал Йене. – Я, можно сказать, полгода отсидел, пока ждал. Можно сказать, наконец-то! Так что будешь покупать у него, – снова кивнул в сторону комнаты, где сидел паханом бородатый и корчил рожи. – Эй, Гуннар, иди сюда! – крикнул ему Йене. – Это русский парень, он у нас покупает, запомни его на всякий случай!