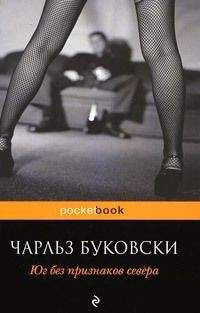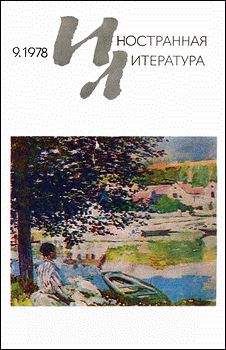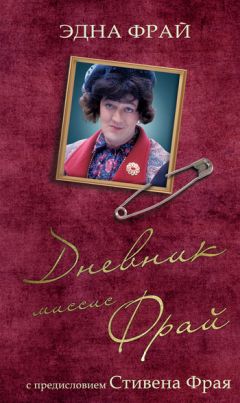– Рути распаляется, – сообщил я Даун.
– Точно. В самом деле.
Я тоже распалялся. Я облапал Даун и поцеловал ее.
– Послушайте, – сказала она, – я не люблю, когда они занимаются любовью на людях. Я заберу их домой и там заставлю.
– Но тогда я не смогу посмотреть.
– Что ж, придется вам пойти со мной.
– Ладно, – ответил я, – пошли.
Я допил, и мы вышли вместе. Она несла маленьких людей в проволочной клетке. Мы сели к ней в машину и поставили людей на переднее сиденье между собой. Я посмотрел на Даун. Она в самом деле была молода и прекрасна. Нутро у нее, кажется, тоже хорошее. Как могла она облажаться с мужиками? Во всех этих вещах промахнуться так несложно. Четыре человечка стоили ей восемь штук. Только лишь для того, чтобы избежать отношений и не избегать отношений.
Дом ее стоял поблизости от гор, приятное местечко. Мы вышли из машины и подошли к двери. Я держал человечков в клетке, пока Даун открывала дверь.
– На прошлой неделе я слушала Рэнди Ньюмана в “Трубадуре”. Правда, он великолепен?
– Правда.
Мы зашли в гостиную, и Даун извлекла человечков и поставила их на кофейный столик. Затем зашла на кухню, открыла холодильник и вытащила бутылку вина.
Внесла два стакана.
– Простите меня, – сказала она, – но вы, кажется, слегка ненормальный. Чем вы занимаетесь?
– Я писатель.
– Вы и об этом напишете?
– Мне никогда не поверят, но напишу.
– Смотрите, – сказала Даун, – Джордж с Рути уже трусики снял. Он ей пистон ставит. Льда?
– Точно. Нет, льда не надо. Неразбавленное нормально.
– Не знаю, – промолвила Даун, – но когда я смотрю на них, то точно распаляюсь.
Может, потому что они такие маленькие. Это меня и разогревает.
– Я понимаю, о чем вы.
– Смотрите, Джордж на нее ложится.
– В самом деле, а?
– Только посмотрите на них!
– Боже всемогущий!
Я схватил Даун. Мы стояли и целовались. Пока мы целовались, ее глаза метались с меня на них и обратно.
Малютка Марти и малютка Анна тоже наблюдали.
– Смотри, – сказал Марти, – они сейчас это сделают. Мы тоже можем попробовать.
Даже большие люди сейчас это сделают. Посмотри на них!
– Вы слышали? – спросил я Даун. – Они сказали, что мы сейчас это сделаем. Это правда?
– Надеюсь, что да, – ответила Даун.
Я подвел ее к тахте и задрал платье ей на бедра. Я целовал ее вдоль шеи.
– Я тебя люблю, – сказал я.
– Правда? Правда?
– Да, в некотором смысле, да…
– Хорошо, – сказала малютка Анна малютке Марти, – мы тоже можем попробовать, хоть я тебя и не люблю.
Они обнялись посередине кофейного столика. Я стащил с Даун трусики. Даун застонала. Малютка Рути застонала. Марти обхватил Анну. Это происходило повсюду.
Мне подумалось, что этим во всем мире сейчас занимаются. Мы как-то умудрились войти в спальню. И там я проник в Даун, и началась долгая медленная скачка….
Когда она вышла из ванной, я читал скучный, очень скучный рассказ в Плэйбое.
– Было так хорошо, – произнесла она.
– Удовольствие взаимно, – ответил я.
Она снова легла ко мне в постель. Я отложил журнал.
– Как ты думаешь, у нас вместе получится? – спросила она.
– Ты это о чем?
– В смысле, как ты думаешь, у нас получится вместе хоть какое-то время?
– Не знаю. Всякое бывает. Сначала всегда легче всего.
Тут из гостиной донесся вопль.
– О-о, – сказала Даун, выскочила из кровати и выбежала из комнаты. Я следом.
Когда я вошел в комнату, она держала в руках Джорджа.
– Ох, боже мой!
– Что случилось?
– Анна ему это сделала!
– Что сделала?
– Отрезала ему яйца! Джордж теперь – евнух!
– Ух ты!
– Принеси мне туалетной бумаги, быстро! Он может кровью до смерти истечь!
– Вот сукин сын, – сказала малютка Анна с кофейного столика. – Если мне Джордж не достанется, то его никто не получит!
– Теперь вы обе принадлежите мне! – заявил Марти.
– Нет, ты должен выбрать между нами, – сказала Анна.
– Кто из нас это будет? – спросила Рути.
– Я вас обеих люблю, – сказал Марти.
– У него кровь перестала идти, – сказала Даун. – Он отключился. – Она завернула Джорджа в носовой платок и положила на каминную доску. – Я имею в виду, – повернулась она ко мне, – если тебе кажется, что у нас не получится, то я не хочу больше в это пускаться.
– Я думаю, что я тебя люблю, Даун.
– Смотри, – сказала она, – Марти обнимает Рути!
– А у них получится?
– Не знаю. Кажется, они взволнованы.
Даун подобрала Анну и положила ее в проволочную клетку.
– Выпусти меня отсюда! Я их обоих убью! Выпусти меня!
Джордж стонал из носового платка на каминной полке. Марти спускал с Рути трусики. Я прижал к себе Даун. Она была прекрасна, молода и с нутром. Я снова мог влюбиться. Это было возможно. Мы поцеловались. Я провалился в ее глаза.
Потом вскочил и побежал. Я понял, куда попал. Таракан с орлицей любовью занялись. Время – придурок с банджо. Я все бежал и бежал. Ее длинные волосы упали мне на глаза.
– Я убью всех! – вопила малютка Анна. Она с грохотом билась о прутья своей проволочной клетки в три часа ночи.
В Городском Колледже Лос-Анжелеса перед самой Второй Мировой войной я выдавал себя за нациста. Я едва мог отличить Гитлера от Геркулеса, а дела мне до этого было и того меньше. Дело просто в том, что сидеть в классе и слушать, как все патриоты проповедуют, что, мол, нам надо туда поехать и добить зверя, мне было нестерпимо скучно. И я решил встать в оппозицию. Я даже не побеспокоился почитать Адольфа, просто-напросто извергал из себя все, что считал злобным или маниакальным.
Тем не менее, реальных политических убеждений у меня не было. Просто способ отвязаться.
Знаете, иногда, если человек не верит в то, что он делает, дело может получиться гораздо интереснее, поскольку он эмоционально не пристегнут к своей Великой Цели. Лишь немного спустя все эти высокие светловолосые мальчонки образовали Бригаду Авраама Линкольна – сдерживать фашистские орды в Испании. А затем задницы им поотстреливали регулярные войска. Некоторые пошли на это ради приключений и поездки в Испанию, но задницы им все равно прострелили. Мне же моя задница нравилась. В себе мне нравилось немногое, но свои задницу и пипиську я любил.
В классе я вскакивал на ноги и орал все, что взбредало в голову. Обычно что-нибудь насчет Высшей Расы, это мне казалось довольно юмористичным. Я не гнал непосредственно на черных и евреев, поскольку видел, что они так же бедны и заморочены, как и я. Но я запуливал иногда дикие речи и в классе, и вне его, а помогала мне в этом бутылка вина, которую я держал у себя в шкафчике раздевалки.
Меня удивляло, что столько людей слушали меня и столь немногие, если они вообще существовали, ставили когда-либо под сомнение мои бредни. Я же просто молол языком, да торчал от того, как весело, оказывается, может быть в Городском Колледже Лос-Анжелеса.
– Ты собираешься баллотироваться на президента студсовета, Чинаски?
– Блядь, да нет.
Мне не хотелось ничего делать. Я не хотел даже в спортзал ходить. Фактически, самое последнее, чего мне захотелось бы, – это ходить в спортзал, потеть, носить борцовское трико и сравнивать длину писек. Я знал, что у меня писька – среднего размера. Вовсе не нужно ходить в спортзал, чтобы это установить.
Нам повезло. Колледж решил взимать по два доллара за поступление. А мы решили – некоторые из нас, по меньшей мере, – что это противоречит конституции, поэтому мы отказались. Мы выступили против. Колледж разрешил нам посещать занятия, но отобрал кое-какие привилегии, и одной из них был как раз спортзал.
Когда приходило время идти в спортзал, мы оставались в гражданской одежде.
Тренеру давалось указание гонять нас взад и вперед по полю тесным строем. Такова была их месть. Прекрасно. Не нужно было носиться по беговой дорожке с потной жопой или пытаться закидывать слабоумный баскетбольный мяч в слабоумное кольцо.
Мы маршировали взад-вперед, молодые, моча бьет в голову, безумие переполняет, озабоченные сексом, ни единой пизды в пределах досягаемости, на грани войны. Чем меньше верил в жизнь, тем меньше приходилось терять. Мне терять было не особо чего – мне и моему средних размеров хую.
Мы маршировали и сочиняли неприличные песни, а добропорядочные американские мальчики из футбольной команды грозились надавать нам по заднице, но до этого дело почему-то никогда не доходило. Может, потому что мы были больше и злее. Для меня это было прекрасно – притворяться нацистом, а затем поворачиваться и объявлять, что мои конституционные права попрали.
Иногда я действительно давал волю чувствам. Помню, как-то раз в классе, выпив немного больше вина, чем нужно, со слезой в каждом глазу я сказал: