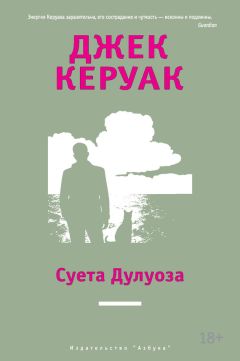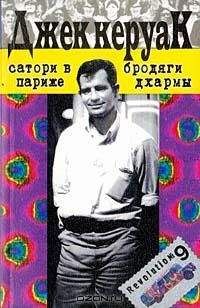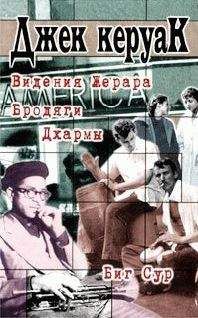«Да ну?»
«Ну да».
«Не забудь, отход завтра в пять вечера. Отдохни хорошенько, пацан», – пока я пробирался назад среди стоящих моряков.
И вот в полночь, после того как оставлял мешок в камере хранения на автостанции, и даже поглядев кино, и, ей-Богу, поврубавшись в Норфолк лишь потому, что я в нем оказался, и фактически столкнувшись со старым корешем детства из Лоуэлла (Чарли Кровгорд, который тоже был влюблен в Мэгги Кэссиди в легкоатлетический сезон 1939 года), я сел в автобус и поехал обратно через южную темень к Нью-Йорку. Дезертир с судна вдобавок ко всему прочему.
А в Нью-Йорке отправился прямиком в студгородок Коламбии, занял комнату на шестом этаже «Долтон-Холла», позвонил Сесили, подержал ее в объятьях (по-прежнему дразнилка эдакая), наорал на нее, потом, когда ушла, выложил свои новые блокноты и взялся делать себе карьеру литературного художника.
Я зажег свечку, чуть-чуть надрезал себе палец, покапал кровью и написал «Кровь поэта» на маленькой визитной карточке, чернилами, затем большое слово «КРОВЬ» поверх и повесил ее на стенку, чтобы напоминала о моем новом призвании. «Кровь», писанная кровью.
У Ирвина я взял все книжки, которые хотел, Рембо, Йейтса, Хаксли, Ницше, Мальдорора, и стал писать бессмыслицу всех сортов, на самом деле – глупую, если подумаешь обо мне, вроде: «Творческая беременность оправдывает все, что я делаю, если это не преступность. Чего ради мне жить нравственной жизнью и терпеть лишения загодя-незаинтересованных эмоций по отношению к ней?» И ответ следовал красными чернилами: «Если так не делаешь, творенье твое не будет крепко. Крепкое творенье нравственно по нраву. Это Гёте доказал». Я вновь расковырял ранку и выдавил из нее еще крови, чтобы сделать кровавый крест, и «Дж. Д.», и тире над чернильными словами Ницше и Рембо:
«НИЦШЕ: Искусство есть высшая задача и собственно метафизическая деятельность в этой жизни».[59]
«РЕМБО: Quand irons-nous, par delàles grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrants, et des démons, la fin de la superstition, adorer… les premiers!…Noёl sur la terre?» В переводе так: «Когда же – через горы и через пески – мы пойдем приветствовать рождение мудрости новой, новый труд приветствовать, бегство тиранов и демонов злых, и конец суеверья; когда же – впервые! – мы будем праздновать Рождество на земле?»[60]
И вот это приколол я к своей стенке.
Я был совершенно один, моя жена и родственники думали, я в море, никто не знал, что я тут, кроме Ирвина, я собирался пуститься в еще более глубокое одиночное комнатное писание, нежели в Хартфорде, Конн., с маленькими рассказиками. Теперь был сплошь Символизм, всякая глупая дребедень, репертуар современных идей, «неодогматизм а-ля Клодель», «нео-Эсхил, осуществление потребности в соотношении интроспективного духовидчества и романтического эклектицизма».
Теперь я привожу эти несколько цитат лишь для того, чтобы показать читателю, что́ я читал, и Как (и Как!) я это впитывал, и насколько серьезен я был. Фактически у меня выстраивалось без счета всякого, и кое-что могло бы примерно описать тональность того периода, что я переживал:
Вот так:
«(1) Хакслианская (?) мысль о непрестанном росте (также Гётевская). Élan vital.[61] Курс беседы (полемичность), чтение, писание и переживание никогда не должны прекращаться. Становление.
(2) Сексуальный неоплатонизм и сексуальное понимание grande dame[62] восемнадцатого столетия как современного веяния.
(3) Политический либерализм в критических судорогах юности (пост-марксистский, пре-социалистический). Чертова современная Европа. Материализм взялся за дубинку.
(4) Конфликт между современной буржуазной культурой и художественной культурой у Томаса Манна, у Ролана, у Вулфа, у Йейтса, Джойса.
(5) Новый аспект, либо новое видение – у Рембо, у Лотреамона (в Мальдороре), либо как у Клоделя.
(6) Ницшеанство – „Ничто не истинно, все дозволено“. Сверхчеловек. Неомистицизм на примере Заратустры. Нравственная революция.
(7) Упадок Западной церкви – грубая причинно-следственность Харди в тот же миг подвергается силе духа Джуда.
(8) Механистичность Фройда практически в тот же миг подвергается эмоциям (как у Кёстлера) либо новой нравственности (как в невнятном смысле у Хёрда).
(9) От гуманизма Х. Дж. Уэллза, от натурализма Шо, и Хауптманна, и Льюисона, незамедлительно к нео-Эсхилу Стивену Дедалу (Bous Stephanoumenos[63]) и универсальному Уховьерту самолично.
(10) Шпенглер и Парето – в результате возвращение, как у Луиса или Рембо, к Востоку. (Мальро.) Почему французы возвращаются на Юг? (Те марсельские декаденты в краснодеревных тропиках Альфредо Сегро.) Англо-католицизм и классицизм Элиота. „Прекрасный сантимент“, – замечает интеллектуал из Кензингтон-Гарденз в Королевском Алберт-Холле.
(11) Музыка… к конфликту и разладу. Пророчество в конце третьей части Девятой Бетховена. Шостакович, Стравинский, Шёнберг. Эго-концепция Фройда поднялась на поверхность и теперь слышимо конфликтует. Видимо на картинах, как у Импрессионистов, у Пикассо, у Дали, et al.
(12) Сановный мистицизм Сантаяны… Де Бёльдьё и его белые перчатки в „Великих иллюзиях“. Высоко-осознанность.
(13) Урок Фрэнсиса Томпсона в неощутимости человеческой жизни. Мелвилл: „Я ищу это непостижимое!“ Также Вулф, Томпсон, вроде как последнего преследует истина одиночества, пока его не принуждают ее принять (!).
(14) Жидеанство… acte gratuite как забвение рассудка и возвращение к порыву. Но теперь порывы наши существуют в обществе, цивилизованном христианством. Жидеанство – богатство в отличие от протейства, безнравственности… есть, по сути, дионисийский избыток художественной нравственности». И т. д.
Художественная нравственность, вот в чем суть, потому что когда я разработал замысел сжечь бо́льшую часть того, что написал, чтобы искусство мое не выглядело (для меня, как и для других) так, будто создано ради чего-то скрытого либо практического, но лишь как функция, каждодневная обязанность, ежедневная копрологическая «куча» ради очищения. Поэтому сожгу я то, что написал, на свечке, и посмотрю, как скручивается и ежится бумага, и стану безумно улыбаться. Так, наверное, рождаются писатели. Святой замысел, я его называл «само-предельность», оно же СП.
Кроме того, чтобы тебе было ясно, интеллектуализм, которым теперь уже повлияли на меня Клод и Ирвин. Но от слова «интеллектуализм» Хаббард лишь фыркнул носом, когда появился в начале того декабря после обильного свечеписания и кровотечения с моей стороны: «Боже мой, Джек, хватит уже этой ерунды, пойдем-ка лучше выпьем».
«Я ел картофельный суп из одной миски с Ирвином в „Уэст-Энде“».
«Ты же в море собирался и всякое?»
«Дезертировал в Норфолке, думал, вернусь сюда за большим любовным романом с Сесили, а ей наплевать».
«Ну ты и субчик. Пойдем поужинаем, потом сходим посмотрим фильм Жана Кокто „Кровь поэта“, если это нынче тебе в жилу, а потом удалимся ко мне в квартиру на Риверсайд-драйве, мальчик мой, и ужалимся морфием. От этого у тебя наверняка новые виденья появятся».
Звучит-то из его уст это, может, и зловеще, но он отнюдь не был зловещ, морфий мне доставался и с других сторон, и я от него все равно отказывался. Ну а старина Уилл в то время – он просто ожидал следующего чудовищного произведенья из-под пера своего молодого друга, меня, и когда я их приносил, он поджимал губы с выражением довольного любопытства и читал. Прочтя то, что мне было ему предложить, он кивал и возвращал произведение в руки его создателя. Я же – я сидел, взгромоздившись на табуретку где-то у ног этого человека, либо у себя в комнате, либо у него в квартире на Риверсайд-драйве, сознательно напустив на себя восхищенное ожидание, а обнаружив, что работа возвращена мне без всяких замечаний, кроме кивка, говорил, чуть не заливаясь румянцем: «Ты прочел, что думаешь?»
Человек Хаббард кивал, как Будда, жутко оживший из Нирваны, ну а что еще ему оставалось делать? Обреченно сводил вместе кончики пальцев. Выглядывая из-за свода рук, он отвечал: «Хорошо, хорошо».
«Но что ты конкретно об этом думаешь?»
«Да… – сжимая губы и глядя в сторону на сочувствующую и равно довольную стену, – ну, я в особенности об этом не думаю. Мне это просто довольно-таки нравится, вот и все». (Лишь несколькими годами ранее он с Ишервудом и Оденом был в Берлине, знавал в Вене Фройда и навещал места Пьера Луиса в Северной Африке.)
Я возвращал работу к себе во внутренний карман, снова весь краснел, говорил: «Ну, во всяком случае, писать это было занимательно».
«Готов согласиться, – бормотал он в ответ. – А теперь скажи мне, как твоя семья?»
Но, видишь ли, позднее той же ночью он, один, уравновесив пальцы под ярым сияньем лампы, скрестив ноги и полуприкрыв глаза тяжкими веками в терпении и ожиданье, снова вспоминал, что назавтра молодой человек вернется с записями своего воображения… и сколь бы неблагоразумными и докучливыми он бы их ни считал… он, да, ждал снова и снова. В иных местах были только установленный факт и пагубный отход.