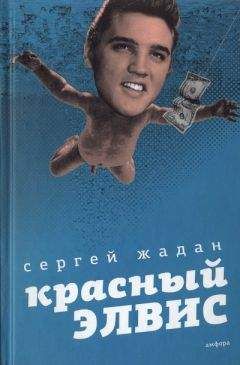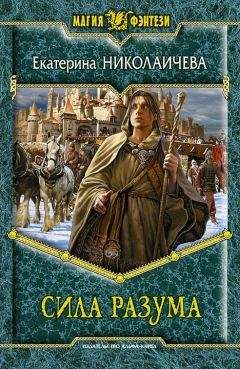В половине пятого утра, под теплым майским небом, где-то на маршруте Донецк-Москва мы с Бобом медленно движемся по железнодорожной колее, чтобы не сбиться с дороги и дотянуть до ближайшей станции, где можно сесть на какую-нибудь электричку. Спешить нам некуда, дел у нас дома никаких, если не считать, что у Боба в животе дырка и он уже второй час тихо, но непрерывно воет. Я тоже уже начинаю выть, но делать нечего, надо добрести до станции, там может быть врач, а вдоль дороги тянутся сопки, кучи ржавого железа, мы то и дело скатываемся по насыпи вниз, пропуская бесконечные цистерны с нефтью и товарняки с черным пахучим углем. Рана у Боба, очевидно, неглубокая, иначе он так долго бы не продержался, но он потерял много крови, она текла у него между пальцев, заливала его старые тертые джинсы, я тоже был весь в крови, хотелось спать и жрать, а станции все не было и не было, только бесконечные товарняки, километровые эшелоны с углем и нефтью, словно за нашей спиной кто-то складывал все декорации и увозил их куда-то на север, оставляя в теплой майской полутьме металлические конструкции, голый каркас, донбасскую пустоту.
В конце концов Боб упал и уже не хотел никуда идти или не мог, я тоже уже не мог его дальше тащить, в тумане не было видно даже сопок, вообще ничего, сплошной туман, сзади и спереди, никто не увидит, даже если захочет, как мы тут валяемся, в придорожном дерьме, на рыжей щебенке, под равнодушными звездами, двое фанатов, что поперлись завоевывать Кубок Республики, а вместо этого огребли по полной и теперь уже не рассчитывают на помощь ни со стороны святых, ни даже со стороны федерации футбола.
Она курит одну сигарету за другой с момента, как нас выгнали из коридора, сказали, идите, не мешайте, ничего страшного нет, все будет хорошо, так что не мешайте, мы вышли на ступеньки, она сидит напротив и курит без перерыва, разговаривать со мной она не хочет, трет свою припухшую скулу. Боб ей хорошо врезал, сама напросилась, мне неловко, я чувствую себя немного виноватым, словно это я ему дырку в животе сделал, хоть она ничего и не говорит, но чувствую я себя хреново и уйти почему-то не могу, вот мы уже полчаса и сидим, молчим. Я вообще с утра молчу, собственно, и говорить-то не с кем. Боб отключился еще на станции, дежурные сержанты вызвали «скорую» и, пока она ехала, надавали мне по почкам, требуя, чтобы я им все рассказал, я ничего и не скрывал, что тут скрывать? можно было и не бить, и так все выложил, врачи перебинтовали Боба, загрузили в «скорую» и повезли домой. А теперь нас выгнали из больницы, я пытаюсь что-то ей сказать, но она меня не слушает, плачет, докуривает свои сигареты, размазывая по лицу тушь и помаду, а я сижу как идиот и не могу ничего сделать, хотя мне тоже жалко Боба, друг все-таки, я вообще его на себе десять километров тянул, хотя кого это теперь интересует, говно, везде одно говно, ничего, кроме говна.
— Не плачьте, — говорю ей, — все будет хорошо.
— Ничего ты не понимаешь, — кажется, она так и сказала «ничего ты не понимаешь», что-то в этом духе. — Я ему говорила.
— Все будет хорошо, — сижу и вешаю ей эту туфту, затянул свое «все будет хорошо», идиот, она на меня и смотрит, как на идиота, что сидит и разглядывает ее распухшую скулу, ее размазанную тушь, ее светлые растрепанные волосы. — Оставьте чуть-чуть, — говорю я, и она напоследок затягивается и отдает мне сигарету, я тоже затягиваюсь, чувствую вкус ее помады и едва не кончаю, что будешь после школы делать? спрашивает она, не знаю, говорю, поеду в институт куда-нибудь, а, говорит она, понятно, хорошо, говорит, ты иди, а я еще посижу, дождусь врача, я подымаюсь и ухожу с окурком в руке, и вдруг на меня накатывает — и потому, что ночь не спал, и потому, что по почкам получил, и потому, что не жрал, и потому, что она все сидит там, на ступеньках, сидит и не знает, что делать, а я даже не могу с ней остаться, стою посреди улицы и продолжаю чувствовать вкус ее дыхания, вкус ее любви, вкус ее никотина.
Через две недели я сдал экзамены, получил аттестат и свалил из города.
Проходит несколько лет, я все успеваю забыть, успеваю погрузиться во что-то другое, дома я с тех пор не был, и делать мне там нечего. Но вдруг получаю письмо от одного из старых друзей, что все же отыскал мой адрес и написал на нескольких листах неразборчивым почерком о новостях и общих знакомых. Эти листы напоминали надписи на братской могиле — так немного осталось живых или, по крайней мере, здоровых. Собственно, ничего удивительного, подумал я, жизнь жестокая штука, жаль, конечно, но что поделаешь, нам с самого начала ничего не светило, и тот, кто из уличных боев за место под солнцем вышел всего-навсего с паранойей или отбитыми печенками, должен благодарить судьбу за откровенную благосклонность, но тут меня передернуло, я прочел, что, как ни странно, мой лучший друг Боб тоже выжил, хоть у него и были серьезные проблемы с головой, поймал свою белую горячку и теперь лечится в популярной в наших краях межрайонной психиатрической больнице в нескольких часах езды от нашего города и что его никто не навещает, даже мама, которая, в свою очередь, тоже спилась и в ладах с головой не больше, чем ее сын. На следующее утро я поехал на вокзал.
Я сильно нервничал, думал, вот сейчас я приду, увижу Боба, и что я ему скажу? привет, Боб, как дела, хорошо выглядишь или что-то в этом роде, что обычно говорят чувакам с белой горячкой, вдруг он — полный тормоз и даже не узнает меня, что, тогда тоже спрашивать, как дела? как дела, Боб, вынести из-под тебя судно? что ему взять? апельсины? на хера ему апельсины, если у него белая горячка, может, он в койку ссытся, а я ему апельсины принесу, маразм, в общем, решаю ничего с собой не брать. Уже подъезжая, думаю, интересно, как себя чувствуют жители этого пятидесятитысячного городка, который если чем и славится, так это своей психбольницей, и если ты, к примеру, родился в этом городе и в нем вырос и даже собираешься прожить тут всю свою жизнь — а все знают, что это именно тот город, в котором находится та самая больница, — как ты должен себя вести? можно ли быть патриотом такого города? приглашать погостить? говорить «обязательно приезжайте, у нас такая природа!»? бля, какая у нас природа! где у нас? в диспансере, что ли? скорее наоборот, они тут все ненавидят свой город, в случайной компании на чужой территории стараются язык не распускать и лишнего не болтать, потому что это все равно что сказать «до скорой встречи» на похоронах.
Теплая, прогретая солнцем больница, во дворе много цветов, сестрички в белых халатах сидят в тени, к Бобу меня, конечно, не пустили, зато зав. отделением, в котором он лежит, захотел со мной побеседовать. Ему лет сорок, вид у него усталый, он явно с похмелья, но держится уверенно, с ним это, похоже, не в первый раз, я про похмелье, ко мне отнесся с симпатией, психолог хренов, старается говорить спокойно, хотя это не всегда ему удается.
— Вы, — говорит, — когда последний раз его видели?
— Лет пять назад, — отвечаю.
— Вы его товарищ?
— Да, мы одноклассники.
— А почему вы вдруг решили его навестить?
— Я не знал, что он здесь. Недавно получил письмо.
— Знаете, вам лучше с ним не встречаться.
— Это почему еще?
— Так для него будет лучше.
— Знаете, — говорю, — я сюда полдня добирался. С утра ничего не жрал, меня, кстати, мутит не меньше, чем вас, давайте вы мне его покажете и мы с ним немного поговорим, а если он ссытся в постель и меня не узнает, вы мне его просто покажете и я уеду, не буду вам мешать.
— Знаете, юноша — а вы, я вижу, разумный и порядочный молодой человек, — вся проблема в том, что он вас узнает.
— Отлично, — отвечаю я, — а в чем тут проблема?
— А проблема, юноша, в том, — зав. отделением нервно похрустывает пальцами, — что у вашего одноклассника, Харченко Богдана Викторовича, 1974 года рождения, серьезные отклонения в психике, и встреча с вами, я в этом уверен, нежелательна ни для него, ни — что самое главное — для вас.
— Ну, я с собой сам разберусь. А что с ним?
— У него все очень плохо.
— От водяры?
— Простите?
— Я говорю, это от алкоголизма?
— Нет, алкоголизм — это как раз следствие.
— Следствие чего?
— Скажите, — доктор держит паузу, — вы его хорошо знали?
— Я его от смерти когда-то спас, если можно так выразиться. В 11-м классе.
— И вы знали его семью?
— Я знал его маму.
— А вы знали, что у них были половые отношения?
— Не знал. Стойте, у кого были отношения?
— У вашего друга, которого, как вы сказали, вы спасли от смерти, и у его мамы.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказать, что ваш друг в течение длительного времени регулярно занимался сексом со своей мамой. В частности, в период, когда вы, по вашим словам, спасли его от смерти.
— Спас, спас.
— Возможно, зря.