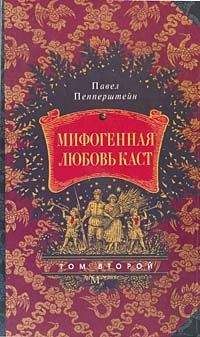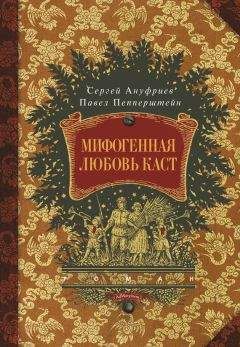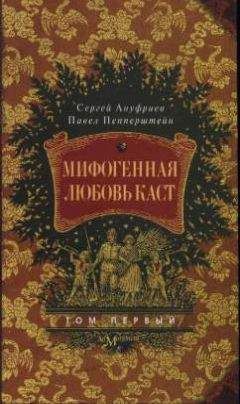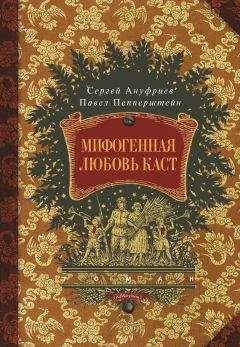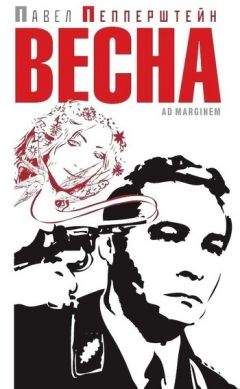Парторг понял, что попал в эпицентр Карусели. Здесь оставался лишь сам механизм ее вращения, сам Стержень, отполированный вращением и скоростью до непереносимого блеска. Отсюда уже стали неразличимы кабинки и лошадки, бегущие троны и восседающие на них фигуры — «кровавые мальчики», «святые девочки», «титаны» и прочее. Они отшелушились. Их унесло… Осталась сама Карусель: и ее скорость, ее вращения, ее вспышки и темные пятна, ее протуберанцы и магнитные бури, ее огненные океаны, ее отражения в бесчисленных зеркалах, ее отблески в каплях и струях воды, в кусках льда, в кристаллах, в алмазах и глазных хрусталиках живых существ, ее восходы и закаты, ее затмения и ужас, ее животное и смертоносное… Карусель была солнцем. Не тем солнцем лжи, и песен, и дребезжащих народных сказок. Не тем солнцем, похожим на красный колобок, которым Дунаев когда-то вставал над Днепром. Карусель была солнцем тайным, беспощадно опаляющим все существующее, невидимым, необозримым, слепящим… Она была внутренним солнцем вещей, их тайной Вспышкой, которая ради всего святого должна быть спрятана в глубине. Но тут Вспышка вышла наружу, пробилась из глубины…
Это было невыносимо! Режущее сияние нарастало. Не удавалось закрыть глаза, потому что они давно уже были закрыты и зажмурены из всех сил. Солнце проникало сквозь веки, дотягиваясь до изумленных глазных яблок. Поток этого сияния нес с собой безумие и галлюцинации. Парторг в отчаянии увидел кошечку, толстую и вроде бы холеную, которая как-то странно егозила внутри своей гладкой искристой шкурки. — казалось, шкурка ей мала, ей тесно в ней.
— Кошечка-жмурка,
Тесная кожурка, —
пролепетала в голове, кажется, Машенька. А может быть, и не Машенька. Может быть, не было никогда никакой Машеньки. Затем Дунаеву показалось, что он распят на пропеллере Карлсона и вращается вместе с ним с дикой скоростью. А Карлсон, как Икар, поднимается выше и выше в жестокое небо, к Солнцу. И Великое Солнце все ближе. И раскаляется металл пропеллера, и все дымится. И нет ничего — только сияние. Сияние, и дым, и полет. Сияние и дым. Жар, обжигающий жар. И белое яростное сияние, и остановка дыхания, и полет…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . парторг очнулся во тьме. Непроницаемая тьма окружала его. Он пошарил вокруг. Нащупал неровную деревянную лавку, на которой лежал, затем бревенчатую стену. Скрипнула дверь, раздались шаги. Но тьма не дрогнула, не изменилась.
— Попейте, дяденька, — прозвучал во тьме молодой, женский голос. Дунаев почувствовал, что женская рука придерживает ему голову. У лица ощутил крынку и узнал запах молока. Сделал несколько глотков. Молоко теплое, парное, только что из-под коровы. Дунаев сильно ударил зубы о край крынки — его всего трясло, как старика.
— Я ослеп? — спросил парторг равнодушно.
— Вы болели, дяденька, — ответил женский простонародный голос. — Очень сильно приболели. Не в себе были. А нынче вот, привел Господь, полегшало вам. Значит, на поправку пошли.
— Я ослеп или что? — снова спросил парторг. Но что-то подсказывало, что он не ослеп.
— Нет, сегодня получшело вам, — повторила девушка, не слушая его. Голос показался Дунаеву смутно знакомым.
— Долго я болел? — спросил Дунаев.
— Очень долго. Очень долго хворали, — залопотал голос. — Батюшка с матушкой говорили: не жилец вы. А я им говорю, еще какой жилец! Мужчина крепкий. Оклемается. И правда вот…
Откуда-то, видимо из-за двери, девушку невнятно позвали, и она ушла, сказав напоследок:
— Лежите, не вставайте. Не здоровы еще. Я скоро снова приду.
Дунаев некоторое время лежал неподвижно на лавке, уставясь невидящими глазами во тьму. Слепота не волновала его. После «солнца» сознание его было словно бы выжженным, он не думал ни о чем. Ничего не чувствовал, ничего не хотел. Так пролежал бы он, наверное, долго, без движений, тихо, равномерно дыша открытым ртом. Но почему-то он вдруг сел на лавке. И тут же понял, что не слеп. Хоть и неясно, как в сумерках, он видел свое тело, руки, колени. Он поднес руку к глазам — видна довольно отчетливо. Но все остальное, все, что не было Дунаевым, казалось съедено тьмой. Он Нащупал пустую крынку на столе, поднес ее вплотную к лицу — ни проблеска. Тьма даже не вибрировала. Он перевернул крынку и вылил остаток молока себе в ладонь. Взглянул. Впечатление было такое, что он налил в ладонь чернил. Молоко было черным.
«Я в Черных деревнях», — понял парторг и снова лег на лавку. От этой мысли ему стало спокойно. Даже дрожь в теле стала постепенно исчезать. Сейчас он, как после пыток, хотел лишь одного — чтобы его больше не мучили. Хотел лишь лежать в этой тьме, чтобы ничего не надо было делать. Вскоре он заснул, и сон принял его без сновидений, такой же темный и простой, как черные деревни.
Когда он проснулся, все так же вокруг стоял мрак. Но тем не менее чувствовалось, что полдень, что дверь открыта и в нее входит теплый воздух и вместе с ним деревенские звуки: скрип колодезного журавля, и далекий лай собак, и гоготание гусят, и кряхтение мужика, который точил косу под окном. Затем стало слышно, как мужик отложил косу и точило, поднялся и вошел в комнату.
— Оклемался, что ли? — участливо спросил мужской голос. — Чаво смотришь совой-то? Али не видишь ничаво?
— Не вижу ничего, — сказал парторг.
— Слепышом, значит, стал, — сказал мужик. — Ты из партизан небось. К немцам, что ли, попал? Пытали, что ли, тебя? Как сбежал то? — Мужичок, видно, был из любознательных.
— Да, пытали, — ответил парторг. — Не помню ничего. И не вижу ничего.
— Как звать-то хотя помнишь?
— Володей вроде звали, — неохотно ответил Дунаев. — Владимир Петрович.
— Владимир, значит, Петрович. А я буду Афанасий Тихонович. Вот и познакомились. Ну, живи покамест, жалко, что ли. Раз болезный, так живи.
— Спасибо, — выдавил парторг. Говорить ему было трудно.
— А чего, дочку вот благодари. Она тебя нашла, она за тобой и ходила. Мы с женой Ангелиной Ивановной думали, ты помрешь. Ан нет, не помер. Русский человек, он живучий. Живи, значит, раз не помер. Живи вот.
Мужик вышел и закрыл за собой дверь
И парторг стал жить, как ему посоветовали. Дни и ночи проходили в одинаковом мраке, но силы постепенно прибавлялись. Вскоре он стал вставать, ходить по комнате. Потом стал выходить из избы. Поначалу сидел на завалинке, иногда с хозяевами, а иногда и один. Потом стал исполнять мелкую работу, какая казалась под стать слепому. Ходил даже косить с мужиками и косил хорошо, размашисто, глядя то вверх, во тьму, то на свои руки, которые сжимали черную, сотканную из тьмы косу.
— Во, партизан-то как махать пошел… Глянь, как кладет — одну за другой… — шутили вокруг невидимые мужики. — Ты ему под горячу косу не попадайся — скосит, как траву. Сапоги дальше сами пойдут.
Парторг слушал их хохот, но сам даже не улыбался.
«После „солнца“ не улыбаются», — думал он. И все же ему было, пожалуй, неплохо здесь, в Черных деревнях. Он чувствовал себя в безопасности. Он помнил, что здесь «земля сама под себя заходит», а значит, закрывает его от неба, которого он теперь боялся больше всего на свете. Он солгал Афанасию Тихоновичу — он все помнил.
Помнил, в частности, что говорил ему Поручик о Черных деревнях: безопаснее места не сыщешь: «когда прижмет по широкому и по узкому делу, прячься в Черных деревнях — туда за тобой ни немцы, ни ОНИ не сунутся».
И вот наступило это время, когда прижало и «по широкому» и «по узкому». Самое время отсидеться у черных. Да и тьма его совсем не раздражала. Когда ему хотелось изредка увидеть что-нибудь, он подносил к лицу свою руку. Она была видна неясно, но все же видна. За многие дни он изучил свои руки так, как никогда не знал их раньше. Он вспомнил, как Радужневицкий учил его гадать по руке. Выяснил, что на правой ладони у него линия жизни очень длинная, чуть ли не до ста лет обещающая продлить ему жизнь, но раздвоенная, так что, собственно, это была не одна, а две линии жизни, обе столетние, длинные и почти не пересекающиеся друг с другом. На левой ладони линия жизни, наоборот, обрывалась в самом начале, как если бы он умер лет в двенадцать. Что же касается линий ума и сердца, то в них ничего необычного не замечалось — довольно глубокие, четкие. Он присматривался к линии ума особенно пристально, пытаясь распознать, не написано ли ему на роду безумие (в глубине души он считал себя сумасшедшим), но ничего такого не обнаружил. Видимо, потому, что сумасшествие его было не внутреннего происхождения, а внешнего, вызванное контузией. «Судьба» в этом деле, наверное, не участвовала, одна лишь простая случайность.
Сжав руку в кулак и посмотрев на кулак сбоку, Дунаев с удивлением убедился, что жениться ему надлежит четырежды. «Неужели еще три раза буду женат? — думал он. — Вроде не молод уже. А с другой стороны, что такое „жена“? Одна жена у меня, по жизни, Соня. Вторая, можно сказать, Зина Миронова. Тоже почти жена. Блокада нас поженила, она же и развела. А третья жена, по любви, — Синяя. Хоть и был всего один поцелуй, но зато какой! Венчальный». — И он несколько раз задумчиво повторил про себя: «Венчальный. Венчальный».