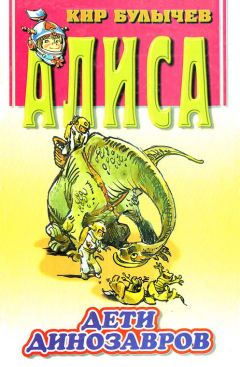Не может быть все-таки, чтобы это была ослиная грива. Но тогда почему только отрывки, надругательство и всякий срам?
Ах, енотовидный песик Тануки! Его прозвали Оборотнем, да еще и Барсуком. Так и говорят: Барсук-Тануки, Тануки-Оборотень, Оборотень-Барсук, а ему и горя мало. Никому и невдомек, что скорбные звуки, которые слышатся по ночам из темной чащи, – это смех Тануки. Он смеется над обманутыми простаками, над теми, кто наложил в штаны, услышав барабанный бой, подобный тому, что извещает о появлении колесниц Императора (откуда в этой глуши Император и колесницы?), сошествии дракона, одноногого повелителя небес по имени Куй, прогулке ведьм над верхушками деревьев, землетрясениях и тайфунах. А это всего лишь Тануки бьет себя лапами по животу, надутому, как пузырь. В незамысловатых песенках Тануки воспевает нежный камыш, яйца диких уток и свою супругу, пушистую, с мокрым холодным носом и мелкими зубками, которыми она выкусывает блох у Тануки на животе.
Тануки-Поэт, Тануки-Барабанщик, Тануки-Добряк, Тануки-Чуткая-Душа! Вот как следовало бы называть его, но тем, кто наложил в штаны, не до поэтических сравнений, они покупают капканы и порох, роют ловушки, ставят проволочные петли на едва заметной тропинке, которую Тануки протоптал к водопою. Покупают, роют, ставят, настораживают – и сами попадаются в свои ловушки, несчастные моногамы! У водопоя Тануки назначает свидание серебристой зайчихе и на своем поэтическом языке уподобляет ее луне, а та делает из этого надлежащие выводы и поступает соответственно. Попадая в капканы, задевая нити самострелов, наложившие в штаны приходят к выводу, что это колдовство Оборотня-Барсука, и в довершение всех бед пачкают белье повторно.
Только угрюмый старик, что живет на краю села со своей ленивой старухой, Тануки не боится. Он давно замышляет изловить барсука и сварить из него овсяный суп. Вот он берет… нет, не капкан, не самострел, не лопату, чтобы выкопать ловушку, а небольшой барабан, обтянутый ослиной кожей. Там, в лесу, он принимается выбивать на барабане одну из тех простеньких мелодий, которую подслушал у Тануки-Оборотня, придавая ей самый зловещий смысл, словно бы вызывая на поединок беса, коварного совратителя чужих невест, похитителя цыплят, злого духа горных лесов. Тануки радостно выбегает навстречу звукам – наконец-то он понят, кто-то подхватил его мотивчик! – и попадает в мешок.
Тануки сидит в мешке притихший – что толку сопротивляться? – и слушает, как кряхтит ленивая старуха: и поясница-то у нее болит, и руки на старости лет ослабли, а этот старый дурень задал ей работенку: наколоть дров, натолочь овса, разделать добычу и сварить суп. Сам же завалился спать и храпит так, что стены дома дрожат и дребезжит треснутое стекло на кухне.
– Я с вами совершенно согласен, почтенная старая женщина, такой труд вам уже не по годам, – говорит Тануки из мешка. – Но ведь у вас есть помощник! Почтение к старшим у меня в крови. Только развяжите мешок, и я к вашим услугам. Только дайте мне пест, и я натолку вам овса. Только дайте мне топорик, и я разрублю сам себя на кусочки, чтобы мое мясо быстрее прожарилось. Только покажите, где ваш колодец, и я наношу в котел воды. Кстати, мне известен такой рецепт овсяного супа, что ваш супруг просто пальчики оближет. Ах, чего только не сделаешь, чтобы угодить почтенной старой даме!
И она развязывает мешок! А Тануки хватает пест, тяжелый медный пест, и запускает ей в голову. Потом он надевает старухину кофту и юбку, повязывает на голову старухин платок и принимается готовить овсяный суп, из старухи, добросовестно припоминая правила обещанного рецепта. Вот уже и ее угрюмый муж проснулся, так вкусно пахнет! И про пальчики Тануки не соврал, тем более что старик отродясь не пользовался салфеткой. Отведав мясного, старик выкурил трубку, и тут в нем проснулся мужчина; Тануки в это время стоял к нему спиной, делая вид, что моет посуду, на самом же деле, поглядывая на дверь, – не пора ли задать стрекача?
Такого оскорбления его поэтическая натура не выносит:
– Ах ты, старый пакостник!
И Тануки, оборотясь, вцепился ему в лицо: обман раскрыт! – он бежит, сбрасывая юбку и кофту, скинул туфли, сорвал головной платок – уже и собакам его не найти! – зеленые папоротники прячут хитрого Тануки, прохладная нора встречает его слабым запахом мускусных железок его супруги, а на тропинке к водопою качаются колокольчики и уже лопаются сухие стручки акаций – слышите? Это природа скорбит… или она смеется?
Автор этой истории добавит: ну не глупа ли была старуха? доверить свои заботы Тануки и понадеяться, что он сделает все лучше, чем она сама. Да никогда такого не бывало, чтобы кто-нибудь сделал за тебя то, что ты должен совершить. Вот посмотри, что с нею стало: она сварилась в овсяном супе, точно курица, а все потому, что была ленива и не любила простого домашнего труда. Будь же достоин иной участи. Не передоверяй никому своих забот, а не то случится с тобой, как с этой старухой, и твоим последним костюмом завладеет какой-нибудь отпетый негодяй.
Бум-бум-бум-бум-бум! Тануки катится, надув живот, извещает о своем славном побеге, поет о том, как ловко он обманул старика и старуху, – бум-бум, – и ему безразлично, что кто-то назовет его отпетым негодяем, присоединив к веселой песенке никуда не годную мораль. Тануки катится под горку и выруливает на тропу к водопою, зад его увешан сухими репейниками, а в голове сорочье перо, отливающее изумрудом, и бум-бум (два исключительно гулких удара, исполненных особо заунывного дребезжания диафрагмы): под кустом шиповника просыпается серебристая зайчиха. Знакомый призыв, но до полудня, когда моя шерстка отливает серебром особой пробы так, что лунный кролик, толкущий эликсир бессмертия, подается вперед и печально вздыхает, разглядев черную тень Тануки, которая закрывает меня, словно луну солнечная тень во время затмения, – до полнолуния еще далеко, к тому же Ратата, благородный рогатый заяц (и кто подарил ему прививочный нож?) с утра пропадает на реке; будет неловко, если мне встретятся там все трое.
– Три короба карпов, – отвечает Ратата, неловко орудуя прививочным ножом. – До моря я намерен добраться за три дня, там их можно руками собирать на отмелях. Цапли и кармараны только так и делают.
– Одолжи мне прививочный нож, – просит его Тануки, которому тоже хочется зеркальных карпов с серповидными бликами в глазах.
– Нет, с твоим барабаном в лодочке из березовой коры далеко не уплыть, она перевернется. Тебе нужна лодка попроще, скажем, из глины. Глина тяжелый материал, зато прочный, – ты видел глиняные горшки на кухне?
Тануки связал каркас из березовых прутьев, обмазал его сырой глиной, как показывал Ратата, в общем, получилась какая-никакая лодка, и Тануки нарисовал ей на носу глаза.
Любуясь брачными играми стрекоз (особенно той, синеглазой, и ее кавалера), Тануки обгоняет Ратату; даже весла себе не сделал и гребет прямо лапами, надеясь на свою чудовищную силу.
– Ратата, Ратата, рогатый заяц, где твое благородство, обманщик? – плачут золотые бабочки, оставив игры над мальвой и цикорием. – Тануки обгоняет тебя уже на целый день пути, твоего пути, Ратата, потому что Тануки проскочил это расстояние за двадцать минут и четыре десятых секунды. Ты не увидишь – а сознайся, хотелось бы посмотреть! – как сумасшедшая лодка из глины разваливается, обнажая березовый каркас, – шпангоуты, рели, стянутые лыком и еловыми корешками, – как Тануки идет ко дну, неуклюже работая лапами, а ряска над ним тут же сходится, чтобы стрекозы не прекратили своих брачных игр из страха перед черной дырой.
Дружно всхлипнув (однако вид у них был довольно забавный), бабочки-корольки полетели к своему повелителю, озабоченному больным желудком и допоздна отвлекали его печальным, сбивчивым рассказом, который лисички, приведя в порядок, старательно изобразили на сводах ночного неба, так повелел властелин небес, потому что ночью золотистые бабочки спят.
– Умер Тануки, он утонул в каком-нибудь омуте, – сказал Ратата, возвращая прививочный нож тому вдовому. Рассказ рогатого зайца был начисто лишен всех лирических подробностей нашей новеллы, всех этих стрекоз (особенно той, синеглазой, до чего же изящно она танцевала над водой, разгоняя хвостом точечную ряску!), всех этих карпов и бабочек-корольков, даже о серебристой зайчихе благородный рогач не упомянул, соблюдая классическую строгость и последовательность в изложении событий. – Я подсунул ему глиняную плоскодонку, и через двадцать минут она развалилась…
Но мог ли вдовый барабанщик в полной мере наслаждаться возмездием? Он даже не заметил, что в рогах у Рататы стало больше еще одним мягким листочком, о свойстве которых будет сказано ниже. Вот уже три дня старик мучался запором, с тех пор как наелся овсяного супа, а ведь ему надо было еще подумать о погребальной церемонии. Соседи, которые знали, как неудачно он пообедал, сочувствовали ему и советовали опростаться прямо в гроб.