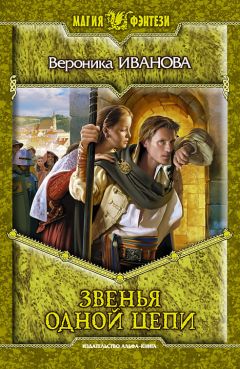Проснулся вечером и сразу же вскочил. Он был весь как воздушный — не то он есть, не то его и нет вовсе. Все стало легким до обалденья. Легко он вознесся на горы, легко сунул голову в палатку и застыл. Перед столом сидел отец Андрей в очках и писал.
— Андрей Эрнестович, — воскликнул он восторженно. — А я-то… — Отец Андрей повернулся и посмотрел на него. Взгляд у него был, как пишут беллетристы, влажный. Значит, уже того…
— А я ведь записку вам пишу, — сказал он. — Пришел, смотрю, вас нет, а все открыто, разбросано. Как же так можно? Тут и костюм новый, и патефон, и «лейка». И все валяется. Велосипед на улице. Сейчас в горах вон сколько народу съехалось, стянут — и поминай как звали. Вот решил подождать, пока не придете, ну что вы, а?
Корнилов рывком подскочил к нему, схватил его за плечи, обнял и даже всхлипнул — такую нежность сейчас почувствовал он к этому старику, так было хорошо, что он пришел.
— Ну, ну, — сказал отец Андрей улыбаясь. — Что это с вами? Небось опять перебрали? У Волчихи?
— Нет, не у Волчихи, — ответил Корнилов, с умилением рассматривая его сухое иконописное лицо, острую бородку, милые мелкие и тонкие морщины, — нет, не у Волчихи, Андрей Эрнестович, а со своими ребятами. Рассчитывал их, вот и…
— Ну, они и обрадовались! Свои-то не все ухнули? На хлеб-сахар есть? Ну и ладно! Небось голова болит? Идемте, подправлю.
— К Волчихе, отец Андрей?
— Нет, не к Волчихе, уважаемый товарищ Корнилов, — гордо произнес отец Андрей и слегка откинул голову, — а в мою собственную резиденцию. Да-с! Я теперь холостяк! Дочка на свиданье с мужем в Сочи уехала! А я, значит, сам себе голова. Вот и пошли ко мне. Покажу я вам свою келью под елью. Только «лейку» забирайте, забирайте. А то доброму вору все впору.
Своей кельей под елью отец Андрей называл зимнюю застекленную террасу. Она была очень длинная и выдавалась, как выдвинутый спичечный коробок. Бог его знает, кто и зачем строил такие дачи. Первое, что бросилось Корнилову в глаза, — это книжные полки. Они тянулись из конца в конец и от низу доверху. Он посмотрел: комплекты «Нового мира» и «Красной нови», перевязанные бечевкой, собрание сочинений Чехова (приложение к «Огоньку»), полное собрание Ленина, разрозненные толстые тома сочинений Маркса и Энгельса и много переводной беллетристики двадцатых годов — пестрые бумажные обложки с броскими рисунками тушью и кармином.
— А где божественное? — спросил Корнилов.
— Вот мое божественное, — сказал отец Андрей и подвел его к небольшой полке над письменным столом. Там стояли сплошь медицинские книги, в том числе несколько учебников по акушерству. Корнилов недоуменно посмотрел на Куторгу.
— И это приходилось! — кивнул ему головой Куторга. — Все приходилось! На то и Север! Золотая Колыма, как ее там называли. Я ведь особые фельдшерские курсы окончил. Но это, конечно, пустяк — как там вывих вправлять или банки поставить, руку перевязать — это я и раньше умел, а вот то, что я пять лет с знаменитым, можно сказать, с мировым светилом проработал, ему ланцеты да пинцеты подносил — вот это уж не пустяк! Я, если хотите знать, полостные операции делал! А один раз в рыбачьем поселке аппендикс прямо тут же, на столе вырезал, только стол приказал отпарить да отдраить ножом добела, и вся дезинфекция.
— И без наркоза? — удивился Корнилов.
— Ну, было у меня кое-что, но так, почти символическое. Вообще-то я в ту пору больше на спирт полагался. Сразу подношу полную жестяную кружку и приказываю: «Пей духом, ну?» — и на стол. Ну, конечно, не живот потрошил, но бывало, даже пальцы вылущивал. Вы что же, не верите? Эх, не желаю я там вам побывать, но если побываете да живым выйдете, о! Многое тогда в жизни поймете. Хорошо, я пойду по хозяйству, а вы тут пока книжечки посмотрите, это все дочкино приобретенье, мои, говорю, только эта полка, там-то есть что посмотреть.
Когда он вернулся, Корнилов стоял у письменного стола и вертел в пальцах бронзовый бюстик.
— Что такое, Андрей Эрнестович? — спросил он. — Откуда это?
Отец Андрей посмотрел на него.
— Часть письменного прибора, — ответил он, — привинчивалась к чернильнице. Ну и что вы любопытного скажете об этом, а?
Это был бюст Дон Кихота. Он, пожалуй, ничем существенным не отличался от образа, созданного Доре и после него повторенного сотни раз художниками, карикатуристами, скульпторами, оперными и драматическими актерами. Та же лепка сухого благородного лица, те же усы и бородка, тот же самый головной убор. Но этот Дон Кихот смеялся: он высовывал язык и дразнил. Он был полон яда и ехидства. Он торжествовал. Он сатанински торжествовал над кем-то. И был он уже не рыцарем Печального Образа, а чертом, дьяволом, самим сатаной. Это был Дон Кихот, тут же на глазах мгновенно превращающийся в Мефистофеля. И тогда становилось ясным, что совсем не шлем у него на голове, а капюшон и под ним рога, что у него бесовский острый подбородок и усы как у адского пса.
— Ну, так что вы скажете? — спросил отец Андрей.
Корнилов все смотрел на бюст. — И такое может быть решенье, — сказал он наконец. — И против него нечего возразить.
— Какое? — спросил отец Андрей.
— А вот какое: рыцарь бедный, Ян Гус, Дон Кихот, Франциск Ассизский… — он съел какое-то имя, — ну еще кое-кто. Что они принесли в мир, зло или добро? Кто ж это поймет! Не пытают ли они мир добром и жалостью? Ведь вслед за ними идут несчастья, убийства, сумасшествия, за святым Франциском — святая инквизиция. За Гусом — гуситские войны. Одним словом, после мучеников всегда идут палачи. Так как вы приобрели эту вещь?
Отец Андрей подошел и сел рядом.
— От отца досталась! Отец был у меня, Владимир Михайлович, замечательный человек, можно сказать, история русской общественной мысли! Журналист, поэт-шестидесятник. И превеликий грешник! Вот я его грехи, наверно, и замаливаю. В «Отечественных записках» писал. Герцену письма слал. К Чернышевскому в Астрахань ездил. Все хотел спросить: что ты высидел в Вилюйском остроге, мученик? Какая истина там тебе открылась? Страшные вопросы! Но не задал он их, не задал! И, кроме разговора с Ольгой Сократовной, ничего у него не получилось. Вернулся, запил. Он ведь страшно пил! Не запойно, но страшно. Напьется и ревет. Именно ревет, а не плачет. От этого еще сравнительно молодым и погиб. Я его еле помню. Атеист он был ярый. Впрочем, может быть, и не атеист, а богоборец — такие тоже тогда бывали. Мать, как только отец умер, этого черта на чердак выбросила, а я уже после революции копал грядку под капусту и откопал его. Вот с тех пор он у меня и стоит, прижился.
— Да, — сказал Корнилов, — да!
Он вздохнул и поставил бюст на место.
— Нехорошо что-то мне все эти дни, Андрей Эрнестович.
— А это у вас не…? Как говорится?… Не зубная боль в сердце?
— Это та, от которой, по Гейне, отлично помогают свинцовые пломбы и зубной порошок Бертольда Шварца? Нет, не она.
— А что же тогда?
— Не знаю. То есть знаю. Конечно, знаю. Напьюсь, может быть, скажу. А потом, ведь это же анахронизм. Ну вот эти пилюли-то — анахронизм! Где я их возьму? Это благородному Вертеру подходит, а не нам. Для нас мышьяк, пятый этаж, чердак, петля! Вот это точно наше. Как по-вашему, отец?
Отец Андрей нахмурился.
— А как по-моему? По-моему, единственный грех, который Бог не прощает христианину, — это самоубийство. Самоубийцы извергнуты на веки веков из лона милосердия Господнего. Их ни отпевать, ни хоронить в освященной земле нельзя. Вот на кладбище для скотов, туда пожалуйста — стащат, выроют яму, бросят и закидают землей. И все! Лежи!
— Да? — вздохнул Корнилов. — Жестокий же у вас Бог, очень жестокий. И никакого прощенья, значит? Здорово! Дайте-ка мне еще раз вашего черта! Смеется, подлый! Он так и вашему отцу-атеисту в лицо смеялся? А, кстати, как он умер-то?
Отец Андрей поднял бутылку и налил стаканы.
— Повесился. На чердаке.
Они выпили одну стопку, налили другую. Отец Андрей начал рассказывать о Севере. Рассказывал он хорошо, артистически акал, и Корнилов все время смеялся. Особенно ему понравилась история артельной стряпухи — баронессы Серафимы Барк. Руки у нее были шершавые, как кора, но в некоторые дни она надевала браслеты и золотой перстень с печатью. Однажды при нем она рыбацким матом пуганула здоровенного верзилу — пришел за водкой — и тут же повернулась к отцу Андрею и объяснила по-французски:
— Это ужасно, как приходится обращаться с этим народом, но, увы (hйlas, hйlas), иного языка он просто не в состоянии понять. Теперь он понял, что это решительный отказ, повернется и уйдет.
И действительно, верзила ушел.
— Кстати, с этой бабкой Фимкой большой конфуз вышел, — сказал отец Андрей, — какой-то институт лет пять назад организовал фольклорную экспедицию. Искали по всему Поморью старых сказителей. Но где ж найдешь? Нету! Кто-то по дурости, что ли, или по озорству, не знаю уж как, и направил их к бабке Фимке. Она и напела им десятка два песен. Прямо по Авенариусу шпарила, есть у него такая детская книжка «О киевских богатырях». У тех инда глаза на лоб полезли. Вот это материал! День и ночь сидели. Все валики исписали, ведро водки выдули! Бабка употребляла. Уехали. Снова приехали. Так она им сказки по Сахарову, самые что ни на есть озорные, преподнесла! На Севере этого добра ведь хоть отбавляй! Те опять все валики исписали. А на самый последний день при прощанье она им после шампанского и тостов и поднесла, кто она такая и откуда, — озорная была старуха, прости ее, Господи. Так начальника экспедиции чуть удар не хватил! Он как клушка закудахтал: «То есть как же так? Как-как? Смольный! Да это же государственные деньги! Ведь эт-то, эт-то…» Вот тебе и это! — отец Андрей рассмеялся и махнул рукой.