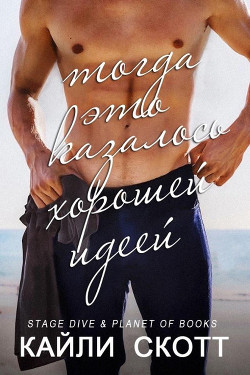умирающих сугробов и первой, непривычной, сухой серости асфальта. На мне старые кроссовки. Непростительно белые среди всего этого тёмного, весеннего (в течение шести месяцев, каждый вечер, перед тем, как надеть на следующее утро, я педорил их щёткой и зубным порошком. Ненавижу грязные кроссовки).
У азербайджанца, прокатившего мимо телегу, белые-белые зубы. Я невольно пялюсь на них. Проводница переносит из одного вагона в другой стопку белых-белых казённых простыней и пододеяльников. Они пахнут хлоркой и хрустят в предвкушении тепла очередного тела.
Оставьте меня молодым. Ожидающим друга. В чаянии встречи с девушкой, нежность к которой пережила всю зиму, теплясь лампадкой где-то глубоко внутри, несмотря на все ветры, что выли ночами в вентиляционных трубах над моей головой.
Зимними днями я слушал курлыканье голубей, залетевших погреться теплом наших квартир. Одним субботним февральским утром птица случайно залезла вглубь шахты, долго там трепыхалась и драла глотку, подобравшись к вентиляционной решётке на нашей кухне. Мы с дедом раскрутили её и достали обезумевшее животное. В тот день была особенно буйная метель. Мы выпустили голубя, но я не был уверен, что он сможет взлететь вверх, чтобы снова залететь в отверстие вентиляции. Слишком отчаянно небо извергалось на землю.
Бесконечная зима, морозы и вихри снега, дожди и ледяное безразличное солнце, потрескавшиеся губы и замёрзшие до красноты руки – наверное, всё это точно стоит одного этого чувства. Чувства того, что ты наконец задышал полной грудью. Что твоё тело наконец может расслабиться, тебе не надо будет больше ёжиться от холода, бежать поскорее в укрытие тепла и электрического света, не надо будет дышать на ладони, чтобы хоть что-то почувствовать. Телефон не будет неожиданно садиться посредь бела дня. «Дождались», – думаю я, жадно цепляясь за чувство того, что всё только-только начинается. Что всё? Почему начинается, если просто течёт своим чередом? – «нет, мы точно спали всё это время…»
Поезд Москва – Воронеж», ночь, пиво, чипсы и грамм гашиша. За окном – тени безликих серых домов, бетонных заборов, красно-белых дымящихся труб. Весенние ночи особенно темны – ни снега, ни отблеска вечного танца листвы. На заборах – следы имён и мыслей, народная мудрость и вселенская глупость. Пройдёт всего лишь час, и поезд умчится в край бесконечного леса, прерывающегося заброшенными дикими полями и кособокими станциями, мелькающими в свете тусклых фонарей. Глаз перестанет различать образы, и дремота накроет тёплой волной. Пункт назначения – станция Пашино, Воронежской области. Состав остановится ровно на сорок пять секунд, и потому мы держим вещи наготове, оставив пустовать ящики под кожаными сиденьями спальных полок.
Пока рисунки на заборах не сменились чернотой леса, мы обсуждали уличное искусство, по которому так сильно тогда тащились. «Искусство умирает, стоит ему стать коммерческим продуктом. Только стрит-арт можно считать истинным искусством. Лишь он содержит чистый посыл, не ориентируясь на зрителя. На востребованность. На продажу. Это истинная свобода. Свобода самовыражения, понимаете? Никто не знает реальных имён. Никто на них не наживается. Не тиражирует. Не ради китча, а ради идеи. Ну круто же, а?» – пылко вещал Ванька (скорее всего, он тогда сказал менее забористо, но суть была такой), рассказывая про «Выход через сувенирную лавку». Это фильм «про Бэнкси, но не совсем», как он тогда объяснил.
Через какой-то год у меня появится причина пересматривать этот фильм снова и снова, пытаясь найти несуществующий ответ на никем не заданный вопрос «почему?»
Вано не был шибко умным, но он определённо думал, и это в нём привлекало. Он был прост как пять копеек, что очень шло к его белым кудрявым (обычно очень коротко стриженным, но стоило чуть отпустить – точно как у Есенина) волосам и зелёным глазам, с жёлтой каёмочкой вокруг зрачка. Физически сильный и духовно вольный в силу воспитания, рамки которого держались на двух столпах: «До 18 – никаких наркотиков, пирсинга и татуировок. В остальном – делай что хочешь». Это дало ему с детства чёткую уверенность, что он никому ничего не должен. В его мире не обязательно было учиться или работать, главным было – найти занятие по душе.
Я очень давно с ним не виделся и только сейчас понял, что очень скучал. Мне не хватало его простого, но ясного объяснения всему, что происходит в жизни. При встрече он гордо сообщил мне, что ночами работает сторожем на звукозаписывающей студии, а днём учится. «Я рад, что ты определился, брат!» – ответил тогда я. Он крепко обнял меня. Странный жест, но ему просто хотелось обнять друга. Он всегда следовал порыву души.
В черте города поезд ползёт не спеша; каждый фонарь за окном надолго озаряет нашу плацкартную клетушку (стоит ему помчать во весь дух – свет фонарей превратится в мгновенные вспышки, едва уловимые глазом). В тусклом свете приглушённой на ночь лампы под потолком вагона глаза Вано сияли жизнью и радостью.
Рядом с Вано – Ася. Её я не видел в два раза дольше, чем его. Всё те же растрёпанные, непослушные волны медных волос, фарфоровая кожа. Всё те же вечно розовые щёки. Веснушки, по весне особенно высыпающие на лицо. Если бы я был заперт в тёмной пещере на долгие годы и вдруг пришла бы Аська, то по этим веснушкам точно можно было бы сказать, какое время года. Вплоть до месяца, потому что в июле фарфор лица совсем уж обращался в глину (забавно, я и забыл об этом).
Они сидели напротив меня. Между нами опущен столик. Мои ноги протянуты наискосок и задраны на их скамейку. Ася полулежит на Ване, его рука перекинута через её плечо, и их пальцы сцеплены. У них очень непохожие пальцы. У неё – пальцы творческой натуры: длинные, тонкие, с угловатыми костяшками, обтянутыми тонкой бледной кожей. У него – мощные, короткие, грубые, покрытые болячками на месте откусанных заусениц. Пальцы аристократки и крестьянина. Они выглядели поэтично. Или, может быть, российская железная дорога делает всё таким поэтичным?
Между ними, как обычно, вроде ничего и не было, кроме братско-сестринской любви, протянутой через годы, но их близость казалась мне чем-то большим. В ту ночь они рассказали мне (спокойно, как рассказывают о чём-то очень давно пережитом), что когда-то давно любили друг друга. Такой чистой любовью, которая может быть только между двумя детьми: когда к самому понятию любви не примешивается ещё сексуальный подтекст, становящийся впоследствии её сутью. Эта любовь никогда не переросла бы в зрелые отношения, просто потому что она была выше того, что происходит между зрелыми людьми, но за все эти годы они словно срослись душами.
Я невольно чувствовал себя третьим лишним. А вообще –