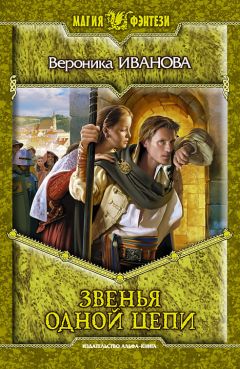— Почему не помню? Роман Львович Штерн.
Надо сказать, что удар был мастерский. Его даже по-настоящему качнуло. На некоторое время он вообще выбыл из строя, просто сидел и глядел на нее.
— А кто это такой? — спросил он наконец.
— Отдыхающий, — ответила она очень просто.
— Так о чем же они говорили?
Он очень медленно собирался с мыслями, он все-таки собирался.
— Но откуда же я знаю? Его спросите.
В кабинете было тихо. Даже прокурор приумолк.
— А как спросить? Вы же не знаете его адреса?
— Почему? Знаю. Пожалуйста. Прокуратура Союза. Следственный отдел. Он его начальник.
— А… — двинулся было Мячин, но его прервал спокойный голос Гуляева:
— А еще он кто, не знаете? Ну этот ваш знакомый по пляжу. Кто он? Ну собеседник Зыбина, ну говорил с ним о политике, ну начальник отдела прокуратуры, а еще кто?
— Писатель? — спросила она неуверенно.
— Правильно! Писатель! Член Союза писателей Советского Союза! А еще кто, знаете? Так вот я вам скажу: еще он брат Якова Абрамовича Неймана, в кабинете которого мы сейчас находимся и который ведет дело вашего знакомого.
Он говорил твердо, сухо, и на какое-то время Потоцкая смешалась и покраснела.
— И все это вы отлично знали, Полина Юрьевна. Поэтому и звонили и вчера и сегодня, что знали. Только это вас и интересовало. А не какие-то там бумажки. И если бы мы не были предупреждены заранее тем же Романом Львовичем, то действительно могли бы на первое время растеряться и повести себя как-нибудь не так, но мы все отлично знали. Так что вы не поразили нас, Полина Юрьевна, нет, никак не поразили.
— Да я и не собиралась вас поражать, — пролепетала Потоцкая.
Она сидела бледная и напряженная.
— Да? — добродушно удивился Гуляев. — Так не надо, не надо нас ничем поражать! Не к чему! Да и к тому же мы очень не любим, когда нас чем-нибудь поражают! Мы ведь сами мастера поражать! Где у вас пропуск? — Он быстро подписал его. — Пожалуйста! Только прошу, если захотите куда-нибудь ехать, то известите, пожалуйста!
Но тут вмешался прокурор — в тот момент, когда была названа фамилия Штерна, он вздрогнул, вытянулся и застыл, просто сделал настоящую охотничью стойку, а потом засопел, задвигался, полез зачем-то в карманы, словом, постарался показать, что он страшно поражен и заинтересован.
— Извините, — сказал он почти заискивающе и поглядел на Потоцкую, — но скажите, как вы могли быть уверены в том, что вас не обманули? Ну мало ли в домах отдыха всяких самозванцев? Ведь удостоверение вы не смотрели? Правда? Так как же вы?…
— Нет, смотрела, — коротко кивнула головой Потоцкая.
— Странно! — пожал плечами Мячин (нарочно, ну конечно, нарочно — ничего ему не было странно). — Служебное удостоверение — это такой документ, который… А вы не напутали чего-нибудь, Полина Юрьевна?
— Нет, не напутала. Он же мне сделал предложение.
— К-а-а-к? — почти каркнул прокурор и на секунду, верно, лишился языка. — Да он же женатый человек! Мы же знаем его жену! Нет, нет!
— Возьмите ваш пропуск, — сказал Гуляев, — вот! До свиданья!
Потоцкая протянула руку, взяла пропуск, встала и пошла к двери.
— Одну секунду, — кинулся к ней прокурор. — Что же вы ему ответили? Нет же, это надо знать, — объяснил он Гуляеву и Нейману. — Так что? — Они оба стояли в дверях.
— Я поблагодарила и сказала, что не могу.
— Потому что в это время… — вдохновенно изрек прокурор.
— Да, потому что в это время мне нравился другой человек, и как раз в этот день я собиралась сказать ему это.
— И это был…
— Да, это был Зыбин.
Гуляев встал, подошел к двери и открыл ее.
— Прошу, — сказал он любезно, но настойчиво, — очень был рад вас увидеть. Вы действительно прояснили нам очень многое. Так справочку я сегодня же вам изготовлю и пришлю. И знаете, если вам потребуется — вполне можете ехать куда хотите! До свиданья. Желаю всего наилучшего, Полина Юрьевна!
Нейман от здания наркомата жил недалеко и домой возвращался всегда пешком. Правда, утром ему все равно приходилось забираться в голубой служебный автобус. Автобус этот аккуратно подкатывал к их дому в восемь часов утра — стоял, порыкивал, и в него постепенно собиралось почти все население дома. Дом был наркоматовский, постройки Хозу НКВД (значит, один из лучших в городе), а верхний этаж занимал первый заместитель.
Сейчас, однако, Нейман пошел не как всегда по проспекту, изумительно прямому и правильному, вычертанному лет восемьдесят тому назад взмахом стремительной генеральской руки, а побрел через широкие проходные дворы с саманными избушками, через пышные багровые сады с мелко полыхающим осинником и барбарисом; по скверу с вялыми утомленными кленами, сладкими липами и дальше, дальше, мимо глиняных заплотов, плетенок, частоколов и водоразборных сторожек — белые, в этот час они сначала голубели до синевы, а потом синели дочерна. Было часов десять. На углах зажглись фонари, и почти сейчас же и разом в окнах вдруг вспыхнули красные, зеленые и синие занавески. У ворот на лавочках сидели люди, лузгали семечки, смеялись и по-вечернему мирно судачили. Кто-то быстрый, невидимый проскользнул мимо и тихо его поприветствовал, в ответ он слегка пригнул голову. С тех пор как он замещал несколько месяцев начальника одного из оперотделов, такие встречи для него были не редкостью. Он дошел до Головного арыка и остановился. «Так-так, — сказал он вполголоса, — значит, вот эдак». Он любил эти тихие часы, это место и его каменную ледниковую прохладу. Здесь около бетонного мостика кончался город: горел первый загородный фонарь и стояла последняя городская скамейка. Внизу, по круглому цементному ложу, бесшумно и стремительно неслась с гор снеговая вода. В такие глухие вечерние часы он скидывал со своих плеч, как тяжелую ведомственную шинель, все это серое длинное здание с площадью Дзержинского, со всеми его постами, секретками, кабинетами, несгораемыми шкафами, тюремными камерами, голыми коридорами и бессонными лампами — и оставался простым немудрящим человеком. Ведь он и верно был таким по ограниченности желаний и потребностей, по самой сути своего скучного, бедного существованья. Даже вспышки ярости, которые он теперь испытывал все чаще и чаще, и те, по существу, ничего не меняли. Это было как ракета над заснеженным таежным лагерем. Он видел однажды такую. Она взорвалась, взлетела, побежала, рассыпалась десятками звезд и огненных перьев, пустила по фиолетовому снегу длинные панические тени — все бежит, полыхает, все куда-то рушится, а прошла минута, и снова ничего нет — и только безмолвно летят в сугроб с неба черные картонные трубки.
«Я так же беден, как природа», — прочел он раз в каких-то арестованных и поэтому, очевидно, преступных стихах и рассмеялся. Вот писака-то! Вот чудило-мученик! Он беден, как природа! А откуда же все тогда берется?! И пишут вот такую чепуху. Но, наверно, это была все-таки не чепуха, а часть какой-то правды, а может быть, дело даже не в этой правде, а в том, что эти строки имели и какой-то особый, более обширный смысл. Одним словом, как бы там ни было, но в минуты раздумья он всегда про себя повторял эту строку. И сейчас, когда надо было ему идти домой и написать обо всем брату, он несколько раз, словно убеждая самого себя, повторил: «Я просто беден. Я беден, и все тут», — потому что домой его никак не тянуло.
В такие тихие сумрачные часы он часто прикидывал, а что случится, если он вдруг сорвется и однажды среди работы встанет из-за стола, оденется и тихонечко-легонечко, никого ни о чем не предупреждая, выйдет и пойдет прямо-прямо до последней городской скамейки. Тут как раз стоят автобусы, он сядет в любой из них: все они идут в горы. Проедет первый мостик, проедет второй, тут кончается предместье и к шоссе подступают горы, посвежеет, запахнет снегом, хвоей и землей — и замелькают станции со странными ласковыми названиями: «Веригина гора», «Лесной питомник», «Каменское плато», «Березовая роща», «Горельник», и наконец стоп! Конец пути — «Мохнатая сопка», дом отдыха «Медео». В доме этом всегда шумно, весело, бестолково, толпятся лыжники, инструктора спорта, просто студенты и школьники. Когда автобус подойдет, они все кинутся к нему, зашумят, закричат, загремят котелками и полезут все разом, а он спрыгнет и пройдет через мостик к буфету. Тут у него давнишняя хорошая знакомая Мариетта Ивановна. Она увидит его и сейчас же заулыбается. Она пышная, белокожая, розовощекая, как тот осенний георгин, что всегда стоит в хрустале над ее коробками, вазами и бутылками. И он тоже улыбнется ей, потому что соскучился по всему этому и рад, что наконец добрался сюда. Он знает про Мариетту все: то есть то, что она живет с пятилетней дочкой, служит в буфете уж третий год, а мужа нет — не то его забрали, не то он сбежал. И Мариетта знает про него тоже все: то, что он геолог какой-то редкой специальности, раньше работал в своем управлении, теперь же перешел в органы, в отдел охраны недр, поэтому его часто посылают в командировки. Во время одной такой командировки от него ушла жена, не то что уж больно любимая, но все-таки… все-таки… И главное, обидно, что он не заслужил такого! И вот он растерян, огорчен, порой даже тоскует, и тогда он приезжает сюда. Человек он тихий, безвредный, ну а что он еврей — так что ж? Ведь есть жиды и есть евреи. В Медео он берет только пиво. Выйдет на балкон, выберет столик, сидит тихо, пьет, закусывает бараночкой и смотрит на горы. Разговаривают они тогда через буфетное окно. Она все время приглашает его в гости, а он отшучивается. А в этот раз пошел бы. Заказал бы не пива, а, скажем, финьшампань, потребовал бы шоколадный набор «Москва» и пошел бы с ней. «Ну что, — сказал бы он и налил бы пару стопок, — что ж ты тут поделаешь, Мариетта Ивановна? Раз такая уж жизнь у нас. Сегодня день моего рождения. Выразите мне свои соболезнованья и давайте поднимем бокалы». И они бы выпили по одной — колом, по другой — соколом, по третьей — мелкой пташечкой.