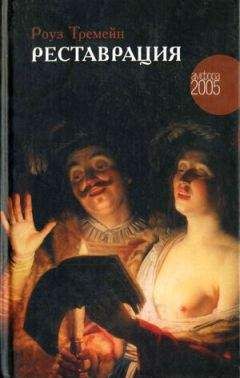Глава первая
Пять вариантов начала
Я пришел к выводу, что весьма несуразно скроен.
Ну посмотрите на меня. Без парика я выгляжу просто как насмешка над соразмерностью. Мои волосы (то, что от них осталось) грязно-песочного цвета и жесткие, как щетина у борова; уши разной величины; лоб забрызган веснушками; нос приплюснутый, словно по нему кто-то сильно врезал при моем рождении, — уж его-то никак не скроешь, как низко ни нахлобучивай парик.
Может, меня ударили в детстве? Вряд ли, ведь мои родители — люди добрые и мягкие. Впрочем, этого я уже никогда не узнаю. Они погибли при пожаре в 1662 году. У отца был нос римского императора. Прямой, выразительный нос мог бы здорово украсить мое лицо, но, увы, мне такой не достался. Может быть, я не сын своего отца? Я сумасбродный, невоздержанный, прожорливый, хвастливый и грустный человек. Возможно, я сын Амоса Трифеллера, старика, который в свое время вытачивал из дерева болваны для шляп — их шили в мастерской отца. Как и он, я люблю прикасаться к полированному дереву. К моему телескопу, например. Признаюсь, прикосновение к этому научному прибору дает моему уму больше, чем созерцание того, что открывается глазам через его линзы. Звезд так много, и они так далеко, что их вид порождает во мне ужас от сознания собственной ничтожности.
Не знаю, составили ли вы обо мне представление? Сейчас 1664 год, он уже на исходе, и мне тридцать семь лет. У меня толстый, весь в веснушках живот, хотя я редко подставляю его солнцу. Как будто стайка крошечных рыжих мотыльков устроилась на нем переночевать. Я коротышка, но в наше время мужчины ходят на высоких каблуках. Меня тянет к изысканности в одежде, но я то и дело пачкаю ее за едой. Глаза у меня голубые и ясные. В детстве меня называли ангелочком и частенько наряжали в костюм из синего муара; для матери я был крошечным законченным мирком: ведь в моем облике преобладали цвета моря и песка в сочетании с нежным, как дуновение ветерка, детским голоском. Даже принимая мучительную смерть, она по-прежнему верила, что я достойный человек. В пропахшем полированным деревом полумраке задней комнаты, где жил Амос Трифеллер (месте наших задушевных бесед), мать, держа меня за руку, нашептывала на ухо слова веры в мое блистательное будущее. Но она не понимала одного, — а у меня не хватало духу ее разочаровывать, — она не понимала, что наступило другое время, и добропорядочность уже не в чести. Наступило Время Больших Возможностей, и только немолодые люди, вроде матери, или патологические слепцы, вроде моего друга Пирса, не видели этого и не собирались этим воспользоваться. Смешно сказать, но Пирс не только не хохочет, но даже не понимает модных при дворе анекдотов, которые я считаю своим долгом ему рассказывать, когда он изредка покидает свой сырой дом в Фенленде и приезжает навестить меня. Объясняет Пирс это тем, что он квакер, и такое объяснение вызывает у меня приступ смеха.
Но вернемся к моей особе, таково уж свойство моей мысли — каждый раз возвращаться к началу.
Зовут меня Роберт Меривел, и насколько недоволен я своей внешностью, и больше всего носом, настолько счастлив носить это имя: ведь только его французскому звучанию обязан я всем, что у меня есть. После возвращения короля[1] в моду вошло все французское: высокие каблуки, зеркала, паланкины, серебряные зубочистки, веера, фрикасе. И имена. В надежде получить повышение по службе Джеймс Гурлей, мой сосед в Норфолке (уродливый и пренеприятный человек), поставил частицу «де» перед своей шотландской фамилией. Но все, чего добился тщеславный де Гурлей, так это того, что француз— остряк у меня за обедом окрестил его «месье Дегуласс».[2] Нас всех это ужасно развеселило; я расхохотался и безнадежно испортил новые ярко-красные штаны, извергнув из себя пудинг с изюмом.
Представьте себе картину: я сижу за столом в вызывающем наряде и хохочу, как одержимый, волосы мои скрывает роскошный парик, веснушки припудрены, глаза поблескивают при свечах, изо рта вылетает пудинг, повинуясь тому началу во мне, которому неинтересно все серьезное, — оно обожает глупости. Я не утонченная натура и не обладаю высокими достоинствами, однако сейчас, когда вы рассматриваете меня, пользуюсь большой популярностью. Правда, я нахожусь еще в середине моей истории, она может иметь разные концовки, и не все из них мне по душе. Глядя в телескоп, я вижу беспорядочные скопления звезд — они не раскрывают тайну моего пути. Говоря другими словами, несмотря на полученное в юные годы образование, я очень многого не знаю о мире и о своей роли в нем.
Итак, я начинаю свою историю или, скорее, предлагаю вам несколько ее начал. Вот они:
1. В 1636 году, в возрасте девяти лет, я осуществил первое вскрытие с помощью следующих инструментов: кухонного ножа, двух костяных ложечек для горчицы, четырех булавок и линейки. Препарировал я трупик скворца.
Этот научный подвиг я совершил в нашем угольном погребе. Сквозь люк туда проникал тусклый свет, я несколько его усилил с помощью двух свечек, приладив их на подносе, где проводил вскрытие. Вонзив нож в грудку скворца, я чуть не задохнулся от волнения. По мере того как я продвигался к цели, волнение все нарастало, — и вот предо мною лежал, наконец, разверстый трупик птицы. Тогда-то я вдруг внутренним взором прозрел свое будущее.
2. Кайус Колледж, Кембридж, 1647 год. Там я познакомился со своим будущим другом Пирсом.
Его комната выходила на холодную лестницу и располагалась как раз подо мной. В то время мы оба изучали анатомию и, несмотря на значительную разницу характеров, нас объединяло отрицание теории Галена[3] и стремление точно определить назначение каждой части тела, понять, как она взаимодействует с остальными.
Однажды вечером Пирс пришел ко мне чрезвычайно возбужденный. Его лицо, обычно серо-мучнистого цвета, раскраснелось, покрылось каплями пота, в строгих зеленых глазах горел огонь.
— Меривел, Меривел, — запинаясь произнес он, — спустись ко мне. У меня сидит человек, его сердце можно видеть.
— Ты что, пьян, Пирс? — спросил я. — Неужели нарушил клятву «Ни капли спиртного»?
— Вовсе нет! — с обидой возразил Пирс. — Спустись и увидишь сам. Поразительное зрелище! За шиллинг его можно даже потрогать.
— Потрогать сердце?
— Да.
— Раз его владелец требует шиллинг, значит, он не труп?
— Поторопись, Меривел, а то он растворится в ночи, и тогда пиши пропало всем нашим экспериментам.
(Мимоходом замечу, что Пирс порой выражается цветисто и мелодраматично, что удивительно для такого невыразительного, сухого, во всем ограничивающего себя человека. Я часто думаю, что никакое анатомическое исследование не выявит, какую роль несут эти цветистые, витиеватые фразы по отношению к целому — неброско одетому человеку, если только это не специфическая, пусть и находящаяся в противоречии с остальным, особенность квакера, чья походка, привычки и ритуалы однообразны и скучны, в сознании же тайно вызревает восторженная и вычурная речь.)
Мы спустились в комнату Пирса. В камине пылал огонь. Рядом стоял мужчина, лет сорока на вид. Я пожелал незнакомцу доброго вечера, он кивнул в ответ.
— Можно раздеваться? — взглянул он на Пирса.
— Да, — сказал Пирс, голос его дрожал от нетерпения. — Раздевайтесь, сэр!
Мужчина снял сюртук, кружевной воротничок и расстегнул рубашку, позволив ей соскользнуть на пол. На груди, там, где у людей под ребрами сердце, была стальная пластина. Пирс вынул из-за обшлага рукава платок и утер со лба пот. Мужчина вытащил пластину, за ней оказалась льняная повязка с пятнами гноя — он осторожно ее снял. Там была довольно большая — размером с яблоко — дыра; наклонившись вперед и присмотревшись, я увидел розовый, влажный комок непрерывно пульсирующей плоти.
— Видишь? — воскликнул Пирс. Жаркий пот его возбужденного тела, казалось, наполнял комнату тропической влагой. — Видишь, оно сокращается, потом снова увеличивается? Перед нами живое, работающее человеческое сердце!
Мужчина улыбнулся и кивнул.
— Так оно и есть, — сказал он. — Два года назад я упал с лошади, и сломанные ребра загноились; нагноение было таким сильным, а образование язвы шло так быстро, что врачи решили: исцеление невозможно. Однако эксцесс прекратился. Правда, и сейчас следы старой язвы можно видеть по краям отверстия в груди. Язва разъела не только плоть, но и ребра, обнажив под ними сердце.
Я был потрясен. У камина с беспечным видом, словно пришел к друзьям перекинуться в картишки, стоял человек, и я мог видеть сокращения его сердца. От этого кружилась голова! Теперь мне стало понятным такое сильное возбуждение Пирса. Но тут — потому-то я и выбрал этот случай как возможное начало моей истории — Пирс извлек шиллинг из засаленного кожаного кошелька, где хранил свой жалкий капитал, и вручил незнакомцу. Тот взял монету и сказал: «Можете его потрогать».