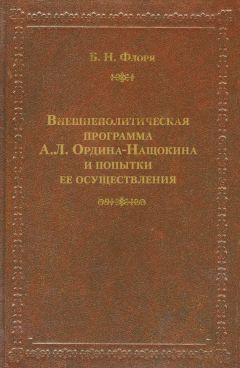Алексей Бакулин
КИРИЛЛ КИРИЛЛОВИЧ
Прежде всего, хочу сказать: я ни в коем случае не настаиваю, что события описываемые здесь, могли происходить в действительности. Их не было. Но грань между тем, что было, и тем, что только могло быть — весьма тонка. Достаточно того, что главные герои этого повествования существовали в действительности, а остальное — игра случая.
Вы без труда догадаетесь, кого я имею в виду.
В 1927 году жил в Берлине молодой русский писатель. Звали его Кирилл Кириллович Нащокин. Он из России выехал вместе с родителями, едва-едва успев закончить гимназию, и писать-то начал уже в эмиграции. Кто-то сравнивал его с Гоголем — за некую веселую бедовость его творений, кто-то с Буниным — за отточенный, холеный стиль, но в общем все сходились на том, что в сущности сравнивать-то Нащокина не с кем: самобытный автор, хотя и немножко слишком самобытный, несколько чересчур. Кое-кого даже раздражала эта самобытность, и чем дальше, тем раздражала она больше… Ну, да я не об этом.
В 1927 году засел Кирилл Кириллович за новую повесть. В ней рассказывалось о том, как русский юноша, хлебнув эмигрантской жизни — не столько ее житейских тягот, сколько сердечных несовпадений с чужбиной — решился на самоубийственный, но красивый, и единственно верный, единственно возможный по мысли Нащокина поступок: задумал нелегально отправиться в Россию. Походить по родной земле, подышать родным воздухом — вернуться восвояси, в милые эти свояси — а сколько месяцев, дней или часов займет эта нелегальная прогулка — не важно. Скорее всего она окончится гибелью. И хорошо. Это будет правильная смерть, настоящая, не эмигрантская.
Вот какую повесть Кирилл Кириллович сочинял, и при этом, конечно же, конечно же раздумывал, не стоит ли ему самому поступить по примеру своего героя. Выводя строку за строкой, он всматривался в свою задумку, дышал ею, жил событием, опережая его на несколько шагов… Он так решил: «Вот напишу повесть, а там увидим. Если репетиция пройдет успешно, если душа только разогреется предчувствием, тогда — вперед, в Россию. А если я сыт буду одной фантазией, если большего не захочется, — ну, тогда, пусть все станется по-прежнему…» С такими мыслями он и продолжал писать, и вот уже дошел до решающего момента, когда герой его, простившись с эмиграцией, — а ведь это и была жизнь! прежде эмиграции только детство, а тут, в европейских вавилонах он, в общем-то, жить и начал, — простившись с этой жизнью, герой был готов вступить в неведомое… Но тут у Нащокина вышла заминка. Сначала он, денег ради, делал какой-то срочный заказ от солидного журнала, потом болел, потом…
Вот потом-то и случилась та история, о которой я хочу поведать.
В Берлин во главе представительной делегации приехал из Советской России сам знаменитый нарком Борис Григорьевич Персидский. Подпольный кумир наиболее продвинутой интеллигенции, друг Гиппиус и Мережковского, завсегдатай ивановской Башни, автор смелых философских работ, штатный партийный мыслитель, из тех, кому и сам Энгельс не брат, видный деятель Совнаркома, ехал очаровывать Германию. Только что из Москвы с позором выставили Троцкого, и руководство страны решило, что настал самый подходящий момент для интриг за границей: под предлогом смены курса надо заманить в Союз как можно больше большевизанствующих западных интеллигентов, а может быть, и белоэммгрантов. В свите отбывающего в Берлин наркома, среди прочих блестящих советских имен, значился и поэт Знаменский.
Вы без труда догадаетесь, кого я имею в виду.
Звали Знаменского, как и Нащокина, Кириллом Кирилловичем, и Нащокин это сходство давно приметил. Он внимательно следил за творчеством громкого советского стихотворца, следил и с насмешкой, и с досадой, и — что скрывать? — с завистью. Ему почему-то казалось, что тёзка-большевик занимает в России его, Нащокина, законное место, что — вот, если бы не эмиграция… Знаменский же о Нащокине даже не слышал: прозу он читал неохотно, а эмигрантов вообще презирал.
Кирилл Кириллович Знаменский любил кататься за границу. Можно сказать, что и лучшие свои стихи в те годы он писал именно за границей. Вот Россию Знаменский знал плохо: с детства он рос среди инородцев, и хоть сам не имел ни капли инородческой крови, но чувствовал себя в своей тарелке среди смуглых, непонятно тараторящих, суетящихся… А Россия… Трудно ее понять, да и некогда… Потом, после победы мировой революции осмотримся, приглядимся, может быть, что-нибудь и поймем… Германию Знаменский тоже не любил: чахлая, скучная страна. То ли дело Франция или Америка: огонь! Но когда товарищ Персидский предложил ему поучаствовать в культурной атаке на Германию, поэт тотчас согласился: во-первых, заграница — это всё же заграница, пусть хоть и скудная Неметчина…
А во-вторых, хотелось Кириллу Кирилловичу побыть одному, вдали от Хозяйки его сердца. Хотелось немного отдышаться. Хоть сердцу его она и Хозяйка, но ведь он тоже на свое сердце какие-то права имел… Пусть небольшие, но все-таки. Накопилось кое-что на этом сердце, и неплохо было бы в тишине гостиничных номеров перебрать накопленное и решить, что делать с ним: выбросить ли прочь, или, завернув в бумажку, спрятать до поры до времени в карман. Дело даже не в обидах, которых не мало (вот и теперь, перед самым отъездом — как горько, как больно, как противно!..), — дело даже не в обидах, — но Кирилл Кириллович начал уставать от им же самим для себя придуманной роли, роли комнатной собачки, слуги покорного, вечного гимназиста в пору первой любви, прыщавого носильщика чужих ранцев… Долгие годы он с удовольствием играл эту роль, и не раз к нему — именно такому, увлечённому ролью — приходила сияющая Муза, чтобы подарить нечто поистине достойное… Долго это длилось — но всему приходит конец. Кирилл Кириллович устал. Кирилл Кириллович вырос, возмужал. Взгляд у Кирилла Кирилловича стал более острым, и теперь, разглядывая свой странный роман, он замечал такое, от чего по ночам не мог спать: мучила, правда, ещё не совесть, но брезгливость…
Одним из пунктов берлинской программы наркома Персидского, была встреча с эмигрантскими деятелями культуры. В Москве его отговаривали от подобного шага, пугали возможным покушением, скандалом, гнилыми помидорами, но Персидский отважно отмахивался.
— Я эту публику очень даже хорошо знаю! — говорил он, чинно протирая пенсне, — Это, в сущности, мои друзья. Уверен, что никакой злобы у них на меня нет. Не с чего им злиться! Я, знаете ли, не в подвалах работал. Не у Феликса под началом! — и защемив переносицу проволочкой пенсне, задорно улыбался.
И вот она состоялась, эта встреча. И, как и рассчитывал Персидский, народу собралось немало — и маститого народу. Пришел и Нащокин.
Он до самого последнего момента не думал, что пойдет. Ему и в голову такое не приходило: идти на встречу с большевистским чиновником — бывают ли затеи более дикие? Но накануне позвонил его друг, поэт, которого Нащокин очень уважал, даже любил как старшего брата, — и попросил прийти.
— Я, видите ли, захворал, Кирилл Кириллыч, дорогой мой, а между тем обещал… Клятвенно заверил… Так неловко… Подумают, что я брезгую, что вот, мол, все согласились, ренегаты этакие, а я как самый правоверный, остался. Вы сходите за меня, пожалуйста, засвидетельствуйте, что точно — болею, чуть живой… А что б вам не скучно было, я вам спутницу найду. Наденька, дочка Николаевых, — знаете? Вы человек холостой…
— Хорошо, Петр Сергеевич, я приду, — сухо сказал Нащокин в телефонную трубку.
Наденька оказалась высокой, блондинистой, серьезной девицей, лет уже… Да… В синем платье и синей шляпке. Нащокин усадил ее в таксомотор и всю дорогу старался, чтобы разговор не касался ни России, ни Советов, ни политики, ни поэзии, ни его самого, ни его белокурой спутницы. Надежда отвечала вежливо и вдумчиво.
Встреча проходила в неофициальной обстановке. Гостей наделяли высокими бокалами и толстыми бутербродами. Персидский, окруженный стайкой почтительных слушателей, переходил из комнаты в комнату, громко и весело говорил, плавно, но сильно жестикулировал… По правую его руку семенили советские товарищи, по левую — эмигрантские. Увидев Нащокина, он остановился, удивился и решительно пошел навстречу:
— Вот не ожидал! Кирилл Кириллович! Чрезвычайно польщен! Поверьте, все ваше я читал. Поверьте! Пожалуйста, осваивайтесь: не смею надоедать вам своим витийством. Угощайтесь, отдыхайте.
— Это Надежда Алексеевна Николаева, — ответил Нащокин, — дочь известного ученого, которого…
— Которого мы выслали, да! — кротко согласился нарком, — Мы как раз об этом и ведем сейчас речь. Пришло время исправлять обоюдные ошибки. А я вас тоже познакомлю. Кирилл Кириллович, подойдите сюда, пожалуйста. Нет, нет, это я не вам, — это, вот, — Знаменский. Видите? А под ручку с ним — это моя дочь Саша.