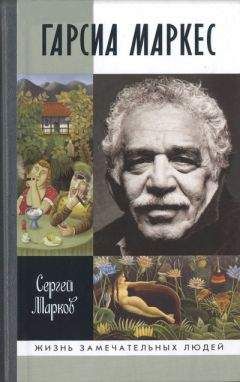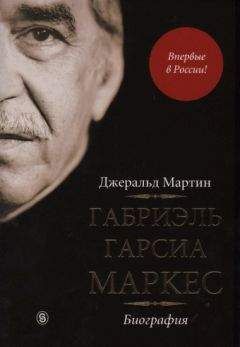Габриэль Гарсиа Маркес
Генерал в своем лабиринте
Альваро Мутису, который подарил мне идею этой книги
Словно бы злой дух направляет мою жизнь.
Из письма Боливара Сантандеру от 4 августа 1823 года
Хосе Паласиос, самый старый из его слуг, увидел, как он, обнаженный, с широко открытыми глазами, лежит в целебных водах ванны, и подумал, что он утонул. Хосе Паласиос знал, что это был один из многочисленных способов предаваться медитации, однако то состояние экстаза, в котором генерал лежал на поверхности воды, напоминало состояние человека, уже не принадлежавшего к этому миру. Он не осмелился подойти ближе, а только негромко позвал его, выполняя приказ разбудить генерала около пяти, чтобы отправиться в путь с первыми лучами солнца. Генерал стряхнул с себя оцепенение и увидел в полумраке прозрачные голубые глаза, взъерошенные вьющиеся волосы беличьего цвета и величавую стать своего бессменного мажордома, который держал в руках чашку макового настоя с древесной смолой. Генерал бессильно обхватил края ванны и высунулся из лечебных вод, оттолкнувшись вдруг, будто дельфин, с неожиданным для его слабого тела напором.
– Мы уезжаем, – сказал он. – И поспешим, ибо никто нас здесь не любит.
Хосе Паласиос столько раз слышал эти слова при таких разных обстоятельствах, что даже и не воспринял их как приказ, хотя кони наготове стояли в конюшнях, а приближенные уже собирались в дорогу. Он помог ему вытереться и набросил на голое тело вигоневое пончо, потому что чашка в руках генерала дрожала – так его лихорадило. Несколько месяцев назад, натягивая замшевые брюки, которые он не надевал со времен роскошных вечеров в Лиме, генерал заметил, что не только похудел, но и стал ниже ростом. Даже его нагота была другой, потому что тело стало бледным, а лицо и руки бронзовыми от неласковых ветров. В прошлом году, в июле, ему исполнилось сорок шесть, но жесткие волосы, вьющиеся, как у всех жителей Карибского побережья, стали пепельными, кости постоянно ныли от преждевременной старости, и он выглядел таким изможденным, что казалось, ему не дожить до следующего июля. Однако его решительные движения принадлежали будто кому-то другому, менее траченному жизнью, – он без устали кружил по комнате. На ходу в несколько глотков выпил настой, такой обжигающий, что едва не вздулись волдыри на языке, при этом старательно обходил темные пятна воды, капавшей с чашки на потертую циновку, покрывавшую пол, и было похоже, будто он пьет воскрешающий напиток. Он не произнес ни слова, пока часы на башне соседнего собора не пробили пять.
– Суббота, восьмое мая тридцатого года, день, когда англичане схватили Жанну д'Арк, – возвестил мажордом. – С трех часов ночи идет дождь.
– С трех часов ночи шестнадцатого века, – сказал генерал глухим от бессонницы голосом. И задумчиво добавил: – Я не слышал петухов.
– Здесь нет петухов, – сказал Хосе Паласиос.
– Здесь ничего нет, – сказал генерал. – Это земля неверных.
Они находились в Санта-Фе-де-Богота, на высоте две тысячи шестьсот метров над уровнем далекого моря, и огромная спальня с иссушенными стенами, подставленная ледяным ветрам, дующим в плохо пригнанные окна, не способствовала укреплению здоровья кого бы то ни было. Хосе Паласиос поставил бритвенный тазик с мыльной пеной на мраморную доску ночного столика, рядом со шкатулкой красного бархата с принадлежностями для бритья из позолоченного металла. Переставил подсвечник со свечой на консоль около зеркала, чтобы генералу было достаточно светло, и подвинул жаровню, чтобы согреть ему ноги. Затем дал ему очки с квадратными стеклами в тонкой серебряной оправе, которые всегда носил для него в кармане жилета. Генерал надел их и побрился, ловко орудуя как правой, так и левой рукой, потому что с рождения владел одинаково хорошо обеими руками, и это было удивительно для человека, который несколько минут назад с трудом держал чашку. Он закончил бритье на ощупь, продолжая ходить по комнате, поскольку старался смотреть в зеркало как можно меньше, дабы не встретиться глазами с самим собой. Потом выщипал волосы в носу и ушах, почистил великолепные зубы угольным порошком, орудуя щеткой из шелкового волокна с серебряной ручкой, подстриг и отполировал ногти на руках и ногах и, наконец, снял пончо и вылил на себя большой флакон одеколона, пошлепывая ладонями по всему телу до полной истомы. В те предрассветные часы он служил свою ежедневную мессу чистоте более истово и яростно, чем всегда, пытаясь очистить тело и дух от двадцати лет бесполезных войн и горького опыта властвования.
Последней, кто нанес ему визит прошлой ночью, была Мануэла Саенс, опытная воительница из Кито, которая хоть и любила его, но на смерть за ним не пошла бы. Как обычно, она явилась проинформировать генерала о том, что произошло за время его отсутствия, ибо достаточно давно он не верил никому, кроме нее. Ей он отдал на хранение свои не слишком дорогостоящие реликвии, вроде нескольких ценных книг и двух чемоданов личных архивов. Накануне, когда они коротко и сухо прощались, он сказал ей: «Я очень люблю тебя и буду любить еще сильнее, если сейчас ты проявишь еще больше благоразумия, чем всегда». Она выслушала это, как и все прочие слова, которые ей приходилось слышать на протяжении восьми лет пламенной любви. Из всех, кто его знал, она была единственной, кто верил: на этот раз он действительно уходит. И она же была единственным человеком, у кого по крайней мере была веская причина надеяться, что он вернется.
Они не собирались еще раз увидеться перед отъездом. Но донья Амалия, хозяйка дома, подарила им это скоротечное последнее свидание и велела войти Мануэле, одетой для верховой езды, через калитку скотного двора, посмеиваясь над предрассудками добропорядочного местного общества. Не потому, что они были тайными любовниками – они ни от кого не таились, чем уже вызвали общественное возмущение, – просто донья Амалия изо всех сил берегла доброе имя своего дома. Он и сам осторожничал не меньше и потому велел Хосе Паласиосу, чтобы тот не закрывал дверь в соседнюю комнату, через которую обязательно должна была проходить прислуга и где гвардейцы охраны играли в карты еще долгое время после того, как кончился визит.
Мануэла читала ему целых два часа. Она была молодой еще совсем недавно, как вдруг ее тело начало опережать возраст. Она курила флотские самокрутки и душилась вербеновой водой, которой пользовались военные, носила мужское платье и жила среди солдат, но ее хрипловатый голос еще вполне годился для любовных сумерек. Она читала при скудном свете свечи, сидя в кресле, хранившем воинственный герб последнего вице-короля, а он слушал, вытянувшись на кровати лицом кверху, одетый не по-военному, ибо был дома, укрытый вигоневым пончо. Только по его дыханию можно было определить, что он не спит. Книга называлась «Слухи и сплетни, ходившие в Лиме в изящном 1826 году», перуанца Ное Кальсадильяса, и она читала ее с театральным пафосом, который так удачно соответствовал стилю автора.
Весь последующий час в спящем доме не слышалось ничего, кроме ее голоса. Но вдруг после ночной проверки постов послышался громкий смех нескольких мужчин, который переполошил сторожевых собак. Он открыл глаза, скорее заинтересованный, чем обеспокоенный, и она опустила книгу на колени, заложив страницу пальцем.
– Это твои друзья, – сказала она ему.
– У меня нет друзей, – ответил он. – А если какие и остались, то ненадолго.
– Но они там, на улице, охраняют тебя, чтобы тебя не убили, – сказала она.
И генерал узнал о том, о чем уже знал весь город: на него и раньше несколько раз покушались, и его сторонники охраняли дом, чтобы помешать следующим попыткам. Передняя и коридоры вокруг внутреннего садика охранялись гусарами и гренадерами-венесуэльцами, которые дойдут вместе с ним до порта Картахена-де-Индиас, где он должен будет погрузиться на какое-нибудь парусное судно, направляющееся в Европу. Двое из них разложили походную постель прямо поперек главного входа в спальню, а двое продолжали играть в карты в соседней комнате, даже когда Мануэла перестала читать, однако времена были такие, что ни в чем нельзя было быть уверенным среди воюющих людей непонятного происхождения и с самыми разными характерами. Нимало не встревоженный плохими вестями, он движением руки велел Мануэле продолжать чтение.
Он всегда относился к смерти как к неизбежному профессиональному риску. Во всех своих войнах он постоянно подвергался опасности, но не получил ни царапины и действовал под перекрестным огнем с таким немыслимым спокойствием, что даже его офицерам пришлось согласиться с простым объяснением: что он, видимо, неуязвим. Он остался невредимым после многочисленных попыток убить его, а несколько раз ему спасало жизнь то, что он не ночевал в своей кровати. Он ходил без охраны, ел и пил без всякой осторожности, что бы и откуда ему ни было предложено. И только Мануэла знала, что его безразличие – не бездумность или фатализм, а грустная уверенность в том, что он умрет в своей постели, нагой и сирый, ни от кого не слыша благодарности и утешения.