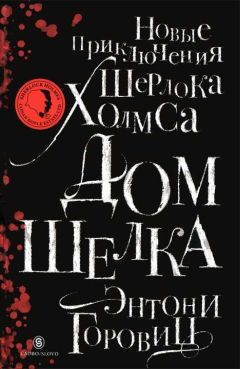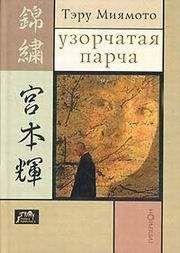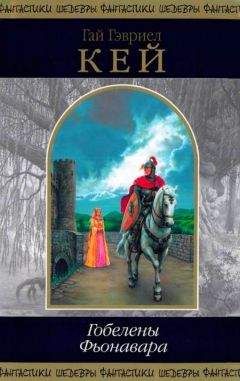Валентин Саввич Пикуль
Трагедия «Русского Макарта»
Морозный Петербург. Раннее утро. Одна из комнат обширной квартиры Маковского отведена для тропического сада, в котором живут заморские птицы, наполняющие жилище художника забавным пением. Он и сам встречает день пением:
Перед троном красоты телесной
Святых молитв не зажигай,
Не называй ее небесной
И у земли не отнимай…
Громадный холст еще чист, возле него стремянка; из китайских ваз растут пышные букеты различных кистей. Бодряще пахнет красками, скипидаром, лаками… Если верить слухам, мастерская Ганса Макарта в Вене более напоминает ателье дамских мод, а мастерская Константина Маковского вроде антикварной лавки: блестят шелка и парча, всюду древнее оружие, боярские одежды, кокошники и сарафаны, в ларцах из слоновой кости туманится жемчуг, на рундуках мерцают братины из серебра и золота, ковры и гобелены — все это цветет и брызжет сочностью красок и света… В полдень живописца навещает солидный сенатор, готовый заплатить за свой портрет 3 000 рублей. Час работы — и все закончено. По опыту мастер знает: улещать удачное — только портить.
— Кажется, готово, — смущенно сказал он заказчику.
Но сановник, весьма далекий от понимания маэстрии, не соглашается платить деньги за столь быструю работу:
— Раньше портреты выписывали комариным жалом, а вы своим помелом — мах-мах и…, разве уже готово? В таких случаях Маковский вынужден притворяться:
— Вы меня не совсем-то правильно поняли. Портрет закончен лишь вчерне, а теперь мне нужен по крайней мере еще месяц, чтобы придать ему необходимое brio — блеск…
После ухода сенатора портрет будет валяться в мастерской целый месяц, после чего масло покрывается лаком и можно отсылать по адресу заказчика. Подобных анекдотов о Маковском сохранилось множество, зато в мемуарном наследии художников о нем упоминается бегло, словно о незначительном мастере. А между тем слава Константина Егоровича Маковского давно уже переплеснула рубежи России, хотя популярность его кисти была иногда обидной для авторского самолюбия.
Не лучше ли обратиться к истокам причудливой и неповторимо противоречивой жизни? Москва была его родиной. А в детстве все интересно. Облезлая ворона смешно пила из лужи. На Ленивке чистоплотный мужик торговал вкусным малиновым квасом. В магазине на Тверской итальянец Джузеппе Артари раскладывал эстампы, выписанные из-за границы.
— Любуйся и запоминай, — внушал отец сыну. Во время прогулок по Москве он требовал от Кости зарисовывать в карманный альбомчик уличные сценки, набрасывать портреты встречных прохожих, а дома спрашивал мальчика:
— Не забыл ли мужика, что квасом тебя угощал? Да и ворона та была примечательна. Ну-ка, изобрази мне их…
Егор Иванович Маковский служил бухгалтером, душою принадлежа искусствам. Гитара уже кочевала по Москве, и Тропинин, приятель его, оставил нам галерею гитаристов и гитаристок, живые немеркнущие полотна. Сколько наивной прелести было тогда в старинных романсах! От Лермонтова до Полины Виардо, от Пушкина до Ференца Листа — никто не миновал очарования этих струн, брызжущих над заснеженными далями России подлинной трагедийностью. Любовь Корнеевна, мать Кости, обладала прекрасным голосом, она пела в публичных концертах, и мальчик, притихший за креслом отца, внимал романсам Гурилева, Алябьева, Булахова, Донаурова. А как выразительны были глаза молодой женщины, облик которой сберегла для нас тропининская кисть. Уже прославленный Брюллов, проездом через Москву, зажился в доме Маковских, очарованный радушием хозяина и красотою его жены. Что там было? И было ли вообще что-нибудь? Это навеки осталось тайною двух сердец, и Брюллов отъехал в Петербург, а Любовь Корнеевна осталась при муже, воспитывая детей…
Много позже Константин Маковский будет призрачно намекать на свое романтичное происхождение.
— Помилуйте, — возражали ему знатоки, — но Карл Палыч загостился в Москве в тридцать шестом году, а вы, милейший маэстро, урождены в тридцать девятом. Не так ли?
— Это ничего не значит, — загадочно улыбался Константин Егорович, и в его автопортретах, писанных в молодости, действительно ощущается нечто от брюлловского облика.
Но и это ничего не значит. Речь пойдет о другом.
***
Прежде о русалках, благо о них ныне писать не принято. Маковскому попало за них, от критики (и по инерции до сих пор еще попадает). Напомню, что «Русалки» Крамского появились в 1871 году, «Садко» Репина — в 1875 году, а Маковский создал свое полотно после них — уже в 1879 году. Крамской сделал русалок добропорядочными девами, у Репина они — экзотичные принцессы, а Маковский свил обнаженные тела в чувственный вихрь, взлетающий от воды к наваждению лунного сияния. Всем троим влетело от критиков! Но стоило ли осуждать эту тему, если русалками наполнены русские народные сказки, если мимо русалочьих чар не прошли ни Жуковский, ни Пушкин, ни Тарас Шевченко. Мне вспоминается, что сказал Семирадский в споре со Стасовым: «А насчет правды в искусстве, так это еще большой вопрос. И нам, может быть, всегда дороже то, чего никогда не было. Таковы все создания гения». Не здесь ли и заложен камень преткновения? Но все-таки странно, что, заговорив о Константине Маковском, никогда нелишне упомянуть: «Это брат известного Владимира Маковского». Их, кстати, было три брата — Владимир, Константин, Николай — и сестра Александра — все художники, как и отец их — талантливый самоучка. К этим же Маковским принадлежат в их потомстве — Александр Владимирович, профессор живописи, и Сергей Константинович, издатель модного в свое время журнала «Аполлон», за выпусками которого и по сей день страстно охотятся наши книголюбы. Семья, как видите, артистическая! И если мать наполняла дом музыкой и пением, отец украшал комнаты картинами. Егор Иванович имел драгоценную коллекцию рисунков: в его собрании хранились даже первые оттиски гравюр Рафаэля, Рубенса и Рембрандта, — величайшим наслаждением он считал просмотр этих сокровищ, вызывая восторг в отзывчивых собеседниках. И вот я думаю: как счастливо непорочное детство, когда осмысленные взоры детей, едва пробуждаемых к жизни, уже скользили по полотнам Кипренского и Тропинина, их глаза чутко реагировали на виртуозную линию граверного резца… Детям своим Егор Иванович постоянно внушал:
— Искусство — это религия, искусство для того и есть, чтобы облагораживать людей, делая их добрее и лучше…
Первые рисунки Кости Маковского бережно поправляла рука мудрого старца Тропинина — лучшего учителя и не найти! Академическая система преподавания, царившая на берегах Невы, была поколеблена на берегах Москвы-реки самою натурой, далекой от идеализации, а богатый опыт Тропинина соразмерял крайности двух школ — петербургской и московской.
В один из дней Егор Иванович расцеловал сына:
— А поезжай-ка ты, Костенька, в Санкт-Питерсбурх… Маковский явился в столицу уже с профессиональной выучкой, привлекая к себе внимание легкостью кисти, декоративностью исполнения. В то время Академия задавала ученикам отвлеченные темы: плач Гектора над телом Патрокла; доверие Александра Македонского к врачу Филиппу;
Иосиф, толкующий сны в темнице, и прочие. Навестив родителей в Москве, Костя рассказывал:
— А раньше бывали и такие темы: изобразить фиговое дерево, над оным расположить Петербург, а под оным — римскую вакханалию. Что я слышу от профессоров? Одно и то же: ножку усильте, а на ручке рефлексика не видать…
Маковский плохо внимал советам наставников, точнее говоря, он попросту отвергал их указания. Но тоже не избежал «классической» участи: его «Харон, перевозящий души мертвых через Стикс», заслужил медаль, в которой ему отказали на том основании, что автор…, молод. Случайно картину увидел Теофил Готье, бывший тогда в Петербурге.
— Я начинал жизнь не поэтом, а живописцем, — сказал Готье Маковскому. — Я в большом восторге от вашего Харона и предсказываю вам, что вы пойдете значительно далее тех счастливцев, что получили медали из серебра и золота…
Вскоре Маковский исполнил портрет графа Муравьева-Амурского — и ко времени! Накануне был ратифицирован Пекинский трактат, закреплявший русские земли по Амуру, и художник изобразил Муравьева под сенью паруса на палубе корабля, бороздящего амурские волны. С этого времени Константин Егорович «сразу становится не только любимым, но и единственным портретистом русской аристократии» (так писал почтенный Игорь Грабарь).
Тургенев уже обозвал Брюллова «пухлым ничтожеством», провозглашая в печати: «Delendus est Brullovius» — «Да будет уничтожен Брюллов», а Маковский, казалось, напротив, подхватывал кисти, выпавшие из рук умерших Брюллова и Тропинина. Восторженная молва о нем еще не умолкла, как вдруг юный живописец со скандалом вышел из Академии! Он примкнул к «протесту тринадцати»; порывая с академической рутиной, они образовали свободную творческую артель во главе с Крамским — Константин Егорович вписался в славную плеяду тех, кого позже стали называть передвижниками. Но соединять свой личный успех с идейной борьбой за утверждение жизненной правды Маковский не стал. Для него, баловня фортуны, задачи товарищества оказались тягостны. Его убеждения не были прочными, а совместно разделять лишения и невзгоды Маковский не пожелал, уже увенчанный лаврами и заваленный заказами петербургской знати.