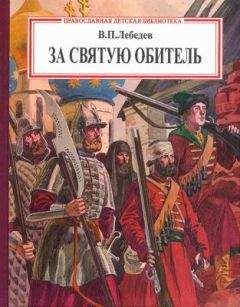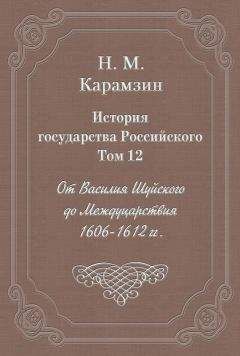Много беды терпела Русь православная в правление царя Василия Иоанновича Шуйского. И опытен был в делах государских надежа-царь, и разумом его Господь не обидел, а знать уж, выдался он такой незадачливый: все грознее и грознее надвигалось на Русь-матушку горе-злосчастие. Под самой Москвой гнездился в селе Тушине вор-самозванец и грозил престольной столице несметными разбойничьими скопищами; рыскали спесивые ляхи хищными конными полками по русской земле, жгли, грабили и похвалялись полонить нашу Отчизну на веки вечные. Греховные соблазны одолевали бояр, князей, воевод, людей думных и ратных, торговых и деревенских… Корысть, разбой, измена и безначалие царили повсюду.
Близ святой обители преподобного Сергия Чудотворца лежало в те давние времена село Молоково. Было оно сначала богатое и людное, а когда наступила злая година, зарыскали разбойничьи толпы — село опустело и обеднело. Чернели пожарища, стояли пустые, разрушенные избы. Хлеб на нивах гнил на корню; не трогал его испуганный, обездоленный крестьянин, хоть уже давно осень наступила, хоть и зима уже близилась…
Печально глядело на хмурое село осеннее солнышко, словно думая: к чему взошло я на зорьке ясной, коли мне и полюбоваться не на что?.. Вот скользнули робкие лучи за крайнюю избу, осветили у ворот ее на завалинке трех рослых молодцов. Была та изба лучше да краше всех других на селе; крепкий тын хранил постройку от злых людей. Молодцы, что на завалинке зарю встретили, были хозяева-домочадцы той избы. Трех братцев Селевиных по всему селу уважали за домовитость и оборотистость. Старшего звали Ананием, силы он был богатырской, нрава прямого, доброго. Второй брат, Данила, послабее был, зато сметливее и расторопнее. Третий, Осип, тоже был собой молодец хоть куда — из десятка не выкинешь — да ходила о нем молва худая: корыстолюбив был парень, завистлив.
— О, Господи! — молвил со вздохом Ананий Селевин, поглядывая на нивы. — Ну и времечко настало!
— Одно слово — беда! — подхватил Данила. Младший брат усмехнулся лукаво и вставил:
— Что ж, ребятушки, зато хошь рук не натрудим…
— Пустое говоришь! — перебил его старший. — Труд-то Господу Богу угоден, особливо наш — крестьянский.
— Иди, потрудись, — опять усмехаясь, кивнул ему Осип головой на легшую вповалку рожь.
— Стану я для нехристей-ляхов работать. Нагрянут да отнимут… Сам знаешь, почему мы сиднем сидим.
Опять замолчали братья. Солнышко все выше да выше всходило, даже припекать стало, даром что сентябрь на дворе стоял.
— Гляньте-ка, и Тимоха на свет Божий выглянул, — сказал быстроглазый, заметливый Данила.
Сосед Селевиных, Тимофей, парень не слабее самого Анания, носил по селу прозвище смешливое — "Суета". Был он тучен, высок, широк и мешковат, а нрава бойкого, любопытного: везде и всюду за другими спешил — и частенько его сельские зубоскалы на смех подымали.
— Мир честной беседе, — молвил он, подходя. — Где бы тут присесть с вами?..
Но на завалинке для такого парня-великана места не нашлось, трое Селевиных ее всю заняли. Огляделся Суета, шагнул к недалекой полусгоревшей избе и мигом выломал из сруба пенек не тоньше себя. У избы рухнул угол, пылью и золой понесло на братьев.
— Ишь медведь! — крикнул Осип. — Чего избу рушишь?!
Принес Суета свой пенек, уселся и ответил:
— Не велика беда — избу порушить, а вот, братцы, ежели тушинский вор Москву-матушку порушит — тогда будет беда злая, горе-горькое…
Вздохнули все. Помолчал Осип и пробормотал тихо:
— А слышь, весело живут в Тушине: пьют-гуляют…
— Небось, и тебя туда тянет? — поймал его на слове Суета.
— Кабы он помыслить только такое успел, я бы его своими руками удушил! Замест отца я теперь ему… За младших братьев старший перед Богом и царем в ответе. Слышь, Оська? — прибавил Ананий.
Смешался, зарделся тот, испугался.
— Да чего вы, братцы! Так слово сказалось, а они почли уж меня за вора-переметчика… Чай, я не лях…
— Не одни ляхи теперь кровь православную льют, — вмешался Данила Селевин. — Свои-то перебежчики хуже…
— А что, братцы, силен-силен вражий лях, а все на нашу святую обитель не дерзает, — заговорил Суета.
— Чай, ее сам преподобный Сергий хранит. Не попустит Господь такой беды! — И Ананий перекрестился.
— Да и прихожане — народ православный, за обитель-матушку вступятся.
— Голову за нее сложим! — подхватил Суета.
У всех четверых лица нахмурились, глаза сверкнули. Денек теплел да теплел; в ближайшей роще зачирикали птицы, зашелестела кругом осенняя желтая трава. Задумались молодцы молоковские, глядя на далекое поле, по которому вилась дорога сергиевская.
— Идет кто-то, — молвил Данила.
Всмотрелись — видят: две богомолки по дороге шагают, торопятся; все ближе и ближе путницы: одна — седая старуха, сгорбленная, другая — совсем еще девочка. Укутаны обе в разное тряпье.
Поклонилась старуха молодцам и спросила.
— Не пустите ль нас отдохнуть малость, люди добрые? Притомились мы с дочкой, от обители-то идучи.
— Милости просим, бабушка, — сказал, вставая, Ананий. Ввел он богомолок в избу, воды им в деревянной чашке принес.
— А насчет еды — не обессудьте, голубушки. Один черствый хлебушко, да и то летошнего помолу.
— Спаси тебя Господь, кормилец, — в голос молвили странницы, раздеваясь и усаживаясь.
Напились они водицы, сухих корок погрызли. Тем временем в избу вошли остальные молодцы и сели.
— Ляхи что ль пожгли у вас село? — спросила старуха.
— И ляхи, и свои, бабушка. Такая уж пора злая…
— Верно, кормилец, правда твоя… Хуже этой поры и не бывало на Руси… Вот и наше село Здвиженское — чай слышали, молодцы — тоже с двух концов ляхи да перелеты запалили. И сгорело оно, как свечечка, словно все избы косой срезало… Ох, горе-горькое!..
Заплакала старуха, закручинилась и дочь: из голубых глаз покатились крупные слезы.
— Батюшка! Родненький!.. — простонала она сквозь слезы.
— И убили моего старика-хозяина! — повела опять речь старуха. — И остались мы с Грунюшкой сиротинками! Негде голову преклонить, опричь храмов Божиих, да и те, почитай все, поруганы нехристями. Одно было прибежище бедным сиротам, нищей братии — обитель-матушка; да и ту хотят теперь злодеи боем взять…
Вскочили молодцы со скамеек все как один.
— Не бывать тому! Костьми ляжем за обитель!
— Да полно, бабушка, может, ты ослышалась? — недоверчиво спросил хитрый Оська.
— Какой, родимые! правда правдинская… Все богомольцы про то толковали, плач и стон стоял в обители. Поплелась я, грешная, к святому старцу Корнилию — духовный отец он мой — пала ему в ноги. Мудрый он старец и милостив к бедным.
— Еще бы! Кто старца Корнилия не знает? Святой человек, — вымолвил Ананий.
— Благословил меня старец и поведал мне: истинно идут на обитель ляхи, и царю то уже ведомо, и посылает он, царь-батюшка, на подмогу бойцам обительским воевод своих с силою ратною и нарядом… Заплакала я, кормильцы мои, как услышала эту злую весточку, побежала спешно к Грунюшке; собрались мы и пошли куда глаза глядят.
Помолчали все недолгое время в думах тяжелых.
— А еще толковали в обители бывалые люди, — опять зачастила старуха, — что поднялся на русскую землю сам Жигимонт со всей силою ляшскою. И больно тот Жигимонт обличьем страшен: власы у него красные, огненные, очи полымем пышут, сидит он, Жигимонт, на крылатом коне, ведет за собой тьмы- тем басурманов; как увидит село али город, дохнет полымем, и только пепел остается…
— Пустое! — степенно сказал Ананий. — На вражью силу есть молитва святая. А вот что, братцы, — надо нам идти обитель- матушку оборонять…
Закрестилась старуха-богомолка.
— А ляхи-то?!
— А Бог-то, бабушка? А Сергий-то преподобный?.. Глянула Груня на Анания, и просветлело ее печальное лицо.
— Видишь, матушка, как добрые люди думают. И я то ж тебе говорила…
Замолчала старуха, не знала что делать. Ананий тем временем оделся, топор из-под лавки взял, в мешок хлеба положил. Остальные парни тоже снарядились, торопливый Данила уже к двери пошел, как вдруг от могучего удара рухнула дверь на пол, послышались чужие голоса.
— Ляхи! — завопила старуха, хоть ничего еще сослепу и разглядеть не могла. И вправду — в сенях теснились человек восемь польских воинов. Держались они с опаской: длинные, заряженные пистоли противу молодцев уставили, в левых руках обнаженные сабли держали. Ананий огляделся, мигнул товарищам глазом: смирно, обождите…
— Кто тут хозяин? — спросил, подвинувшись, толстый, румяный, с висячими усами старший лях. Ананий спокойно вышел вперед.
— Иди до нашего ясновельможного ротмистра, пана Лисовского. Живо!.. А вы, другие, ни с места — не то пулю в лоб!