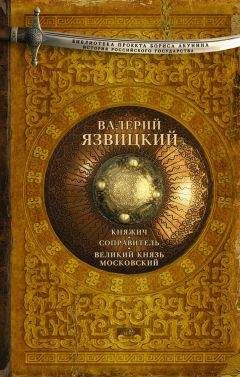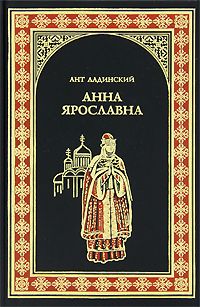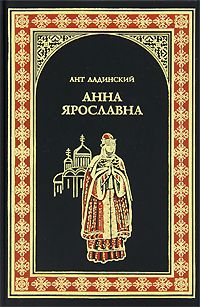Валерий Язвицкий
Княжич. Соправитель. Великий князь Московский
© B. Akunin, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
* * *
Посвящаю этот труд жене моей Варваре Алексеевне Язвицкой
Глава 1
В Московском Кремле
Вскричала жалобно во сне и сразу же проснулась княгиня Марья Ярославна. Страшно ей, а что привиделось, не помнит. Тоской, духотой томит ее, а кругом-то тьма еще темная. Словно шапкой накрыла Москву знойная летняя ночь, будто придушила. Тишина мертвая, а по всему Кремлю то ближе, то дальше как-то нехорошо петухи перекликаются особым ночным криком. Хочет княгиня соскочить со скамьи, пробежать скорее в сенцы, разбудить девку Дуняху, да ноги нейдут – ослабли с испугу…
Вдруг где-то близко как взвоет по-волчьи собака, словно, окаянная, смерть почуяла. Спрыгнула с постели княгиня, откуда и силы взялись, спешит все сделать как полагается.
– На свою голову вой, на свою, не на княжие хоромы, – быстро шепчет она заговор и торопливо переставляет свои башмаки к самому порогу, пятками к двери.
Собака завела еще протяжней и враз смолкла, а со двора все так же страшно глядит глухая июльская ночь, и четырехугольные листочки слюды, как злые глаза, чернеют в косящатых окнах. Темно еще в душных покоях, лишь в переднем углу, у кивота с иконами, разливается тихий свет и дрожит кроткое сиянье. Алые и синие лампады, мигая огоньками и чадя деревянным маслом, бросают разноцветные пятна на гладкие стены из дубовых тесаных бревен, обитые сукном-багрецом, завешанные всяким узорочьем, и на пестрые ковры, застилающие весь пол опочивальни. Перебегая от огоньков лампад, играют райки на самоцветных камнях золотых венцов и окладов, и всё тут спокойно, тихо и дивно…
Вдруг полыхнуло в окна огнем и, четко обозначив на миг свинцовые переплеты рам, совсем ослепило. Грянул гром, тяжело прокатившись по небу.
Марья Ярославна вздрогнула и поспешно закрестилась, шурша шелком сорочки.
– Пресвятая Богородица, заступница наша, спаси и помилуй, – привычно зашептали губы, и вдруг ей припомнилось, о чем днем и ночью молилась, с тех пор как великий князь пошел к Суздалю на Улу-Махмета.
Пала княгиня ниц пред иконами.
– Побей, Боже, – молит Ярославна в слезах, – побей Махмета царя, защити от злого татаровья. Помилуй князя Василья и все христианство. Ради младенцев моих Ивана да Юрья спаси, Господи, раба Твоего Василья…
Долго билась и плакала она на полу пред кивотом, и легче ей стало после слез и молитвы. Да и быстро летняя ночь побелела, побелели и в окнах слюдяные листочки. Встала с колен княгиня и со слезами еще на больших темных глазах побрела босая тихонько через крытые сенцы в хоромы княжичей.
Прислушалась, отворила дверь осторожно в покои, чтоб не скрипнуть, и в щелочку у косяка подглядела: спят ее оба сыночка под храп мамки Ульяны, ни заботы, ни горя не ведают.
– Да и что им знать-то? Ивану шестой, а Юрью и четырех еще годиков нету…
Перекрестила их через дверь и, сразу сомлев ото сна, еле дошла до своей опочивальни. Позевывая и крестя рот частым крестом, чтобы не влетела нечистая сила, оправила она постель на скамье и легла. Слышит – у Спаса-на-бору, что рядом на великокняжьем дворе стоит, сторож Илейка часы бьет, но тяжелые веки сами смыкаются, путается все в голове у княгини, и, не досчитав часов, заснула она на третьем ударе.
Второй раз проснулась княгиня от громкого воркованья голубей над окнами – гнезда у них там за резными наличниками. День уже занялся, совсем рассвело. Раннее солнышко червонно-золотыми стрелами бьет сквозь слюду в самый потолок, и словно все смеется кругом от радости. Вот и коровы замычали, пастух в рожок заиграл.
– Ой, заспалась! – вскрикнула княгиня испуганно.
Наскоро перекрестясь на образа, выскочила она в сенцы, разбудила Дуняху и заплескалась у рукомойника. Не успела умыться, а Дуняха уже тут с шитым шелками утиральником.
– Чтой-то, государыня, ныне ты так ранехонько встала? – говорила курносая толстогубая девка, лениво почесываясь и потягиваясь.
– Суббота сегодня, Дуняха, али забыла? В подклетях Федотовна с Варюхой мыльню, поди, уж топят, да и в крестовую[1] поспевать надо.
Осердится Софья Витовтовна…
– Верно, государыня, строга у тобя свекровь-то. Грозно блюдет молебные, да только зря ты всполошилась – солнце-то у самого края земли еще. Успеешь. Охо-хо! Рот-то мне от зевоты свернуло. Спозаранку ты поднялась, али что худое привиделось? Ведь и гребта у тобя на душе великая.
– Тому не гребтится, кто Бога не боится. Ночесь сон страшный видела, да с испугу забыла какой, а тут еще пес так жалобно взвыл…
– Ой, страсти! Покойников чует пес-то, бьются наши с погаными…[2]
– Только успела яз вовремя заклятье наложить – башмаки к порогу переставить.
– Ну, слава богу! Отвела ты горюшко, а то, как ведаешь, и мои братья с великокняжьим двором под Суждалем…
Утираясь полотенцем, прошла в опочивальню княгиня и начала обряжаться к молитве.
– Ну, Дуняха, убирай голову мне поскорее, – приказала она по-хозяйски и сбросила ночную повязку.
Глаза у княгини стали строгими, как пишут на иконах, и сурово, почти неподвижно смотрели из-под крутых бровей куда-то вдаль, будто за стены хором. Заробев от этого взгляда, Дуняха молча расчесала ей густые русые волосы, заплела на две косы, туго стянув их, чтобы плотней улеглись под шелковым волосником с жемчужной поднизью, чтобы к сраму и к греху великому ни одна прядь из-под него случайно не выбилась.
Тщательно ощупав края волосника, Марья Ярославна осталась довольна Дуняхой.
– Ладнушко! – ласково усмехнулась она. – Не дай бог бабе опростоволоситься!
– Каку рубаху-то давать? – сразу повеселев, спросила Дуняха. – Белу, алу ин изволишь желту?
– Алую хочу сегодня.
Дуняха достала из сундука шелковую рубаху с пристегнутыми к рукавам запястьями, развертывая, как всегда, дивовалась:
– Запястья-то – одно загляденье! Шитье золотое так узорно, а жемчуг крупной да красно[3] так насажен!
Усадив княгиню на резной столец,[4] Дуняха надела ей желтые сафьяновые чулки-ноговицы с золотым и жемчужным шитьем, обула в такие же нарядные алые башмаки на серебряных подковах.
Поверх рубахи Марья Ярославна велела накинуть цветистый шелковый летник[5] с длинными, до пят, рукавами, расшитыми золотом, с жемчужной обнизью. Широкая парчовая лента с золотой тесьмой обегала вокруг всего летника у подола и спереди взбиралась вдоль застежек каждой полы к самому горлу.
Дуняха застегнула летник на все кованные из серебра пуговицы и повязала княгиню поверх волосника белым головным убрусом с золотым шитьем на концах.
– Ну и баска же ты, государыня Марья Ярославна! – всплеснула руками Дуняха. – Токмо вот ожерелье надеть да серьги самоцветные…
Княгиня весело рассмеялась и, выставив рукава летника, а из-под них запястья алой рубахи в прорези позади рукавов опашня, воскликнула:
– Ах, люблю яз алый цвет, Дуняха! И как нарядно выходит: опашень весь рудо-желтый, а сверху рукава, а снизу башмаки – алые!..
Затопали легко и часто в сенцах детские ноги, распахнулась дверь опочивальни, и оба сына княгини Марьи Ярославны вбежали к ней уже умытые и одетые, в желтых вышитых рубахах с серебряными поясами и в синих порточках, заправленных в сафьяновые сапожки.
Мамка Ульяна в парчовой шубейке и в парчовом волоснике, еле поспевая за княжичами, крикнула им с порога:
– Перекреститесь раньше на образа-то!
Мальчики послушно закрестились, но тотчас же, смеясь и подпрыгивая, подбежали от кивота к матери. Мамка Ульяна насупила брови. Не нравились ей эти вольности, все же круглое и морщинистое лицо ее улыбалось, а серые, совсем прозрачные глаза лукаво смеялись, поглядывая на княжичей.
– Матунька, – ласкался Иван к матери, – дай щечки твои поцелую, пока не набелила их Ульянушка…
– А и то, Ульянушка, начинай, – заторопилась Марья Ярославна, обнимая и целуя детей, – хлопот-то тобе со мной надолго…
– Ну, свет мой Ярославна, у меня всё скоричко! На язык я – скороговорка, на руку – скороделка: лысый не успеет кудри расчесать, а я уж все снарядила…
Дуняха, завязывая на затылке свой девичий венец, прыснула со смеху.
Засмеялась и княгиня, а за ней и дети.
– Щеки набелю, нарумяню, – продолжала Ульяна, доставая горшочки с притираньями, – брови сурьмой подведу, сурьмой подведу да потом…
Визг поросят и громкое гоготанье гусей на дворе заглушили ее голос.
Внизу, у самых подклетей княгининых хором, где хлебенный, сытный, кормовый и житный дворы, а также скотный, птичий, поднялся сплошной шум и говор, как на торге. Иногда только можно разобрать сквозь гом и гул, как, отворяясь, скрипят ворота, звякает цепью ведро у колодца, заливчато ржут лошади, кричат и ругаются люди…