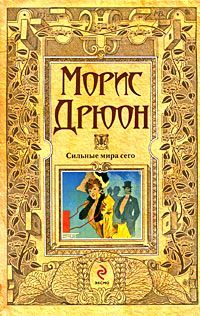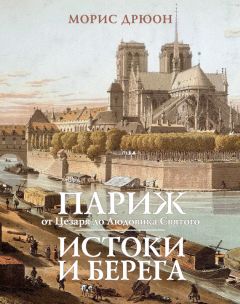Морис Дрюон
Сильные мира сего
Посвящается маркизе де Бриссак, княгине фон Аренберг
Стены больничной палаты, деревянная мебель – все, вплоть до металлической кровати, было выкрашено эмалевой краской, все прекрасно мылось и сияло ослепительной белизной. Из матового тюльпана, укрепленного над изголовьем, струился электрический свет – такой же ослепительно белый и резкий; он падал на простыни, на бледную роженицу, с трудом поднимавшую веки, на колыбель, на шестерых посетителей.
– Все ваши хваленые доводы не заставят меня переменить мнение, и война тут тоже ни при чем, – произнес маркиз де Ла Моннери. – Я решительно против этой новой моды – рожать в больницах.
Маркизу было семьдесят четыре года, он доводился роженице дядей. Его лысую голову окаймлял на затылке венчик жестких белых волос, торчавших, как хохол у попугая.
– Наши матери не были такими неженками! – продолжал он. – Они рожали здоровых детей и прекрасно обходились без этих чертовых хирургов и сиделок, без снадобий, которые только отравляют организм. Они полагались на природу, и через два дня на их щеках уже расцветал румянец. А что теперь?.. Вы только взгляните на эту восковую куклу.
Он протянул сухонькую ручку к подушке, словно призывая в свидетели родственников. И тут у старика внезапно начался приступ кашля: кровь прилила к голове, глубокие борозды на отечном лице покраснели, даже лысина стала багровой; издав трубный звук, он сплюнул в платок и вытер усы.
Сидевшая справа от кровати пожилая дама, супруга знаменитого поэта Жана де Ла Моннери и мать роженицы, повела роскошными плечами. Ей давно уже перевалило за пятьдесят; на ней был бархатный костюм гранатового цвета и шляпа с широкими полями. Не поворачивая головы, она ответила своему деверю властным тоном:
– И все же, милый Урбен, если бы вы свою жену без промедления отправили в лечебницу, она, быть может, и по сию пору была бы с вами. Об этом в свое время немало толковали.
– Ну нет, – возразил Урбен де Ла Моннери. – Вы просто повторяете чужие слова, Жюльетта, вы были слишком молоды! В лечебнице, в клинике – где угодно – несчастная Матильда все равно бы погибла, только она еще больше страдала бы от того, что умирает не в собственной постели, а на больничной койке. Верно другое: нельзя создать христианской семьи с женщиной, у которой столь узкие бедра, что она может пролезть в кольцо от салфетки.
– Не кажется ли вам, что такой разговор вряд ли уместен у постели бедняжки Жаклины? – проговорила баронесса Шудлер, маленькая седоволосая женщина с еще свежим лицом, устроившаяся слева от кровати.
Роженица слегка повернула голову и улыбнулась ей.
– Ничего, мама, ничего, – прошептала она.
Баронессу Шудлер и ее невестку связывала взаимная симпатия, как это нередко случается с людьми маленького роста.
– А вот я нахожу, что вы просто молодец, дорогая Жаклина, – продолжала баронесса Шудлер. – Родить двоих детей в течение полутора лет – это, что бы ни говорили, не так-то легко. А ведь вы превосходно справились, и ваш малютка – просто чудо!
Маркиз де Ла Моннери что-то пробормотал себе под нос и повернулся к колыбели.
Трое мужчин восседали возле нее: все они были в темном, и у всех в галстуках красовались жемчужные булавки. Самый молодой, барон Ноэль Шудлер, управляющий Французским банком, дед новорожденного и муж маленькой женщины с седыми волосами и свежим цветом лица, был человек исполинского роста. Живот, грудь, щеки, веки – все было у него тяжелым, на всем как будто лежал отпечаток самоуверенности крупного дельца, неизменного победителя в финансовых схватках. Он носил короткую черную как смоль остроконечную бородку.
Этот грузный шестидесятилетний великан окружал подчеркнутым вниманием своего отца Зигфрида Шудлера, основателя банка «Шудлер», которого в Париже во все времена называли «барон Зигфрид»; это был высокий, худой старик с голым черепом, усеянным темными пятнами, с пышными бакенбардами, с огромным, испещренным прожилками носом и красными влажными веками. Он сидел, расставив ноги, сгорбив спину, и, то и дело подзывая к себе сына, с едва заметным австрийским акцентом доверительно шептал ему на ухо какие-нибудь замечания, слышные всем окружающим.
Тут же, у колыбели, находился и другой дед новорожденного – Жан де Ла Моннери, прославленный поэт и академик. Он был двумя годами моложе своего брата Урбена и во многом походил на него, только выглядел более утонченным и желчным; лысину у него прикрывала длинная желтоватая прядь, зачесанная надо лбом; он сидел неподвижно, опершись на трость.
Жан де Ла Моннери не принимал участия в семейном споре. Он созерцал младенца – эту маленькую теплую личинку, слепую и сморщенную: личико новорожденного величиной с кулак взрослого человека выглядывало из пеленок.
– Извечная тайна, – произнес поэт. – Тайна самая банальная и самая загадочная и единственно важная для нас.
Он в раздумье покачал головой и уронил висевший на шнурке дымчатый монокль; левый глаз поэта, теперь уже не защищенный стеклом, слегка косил.
– Было время, когда я не выносил даже вида новорожденного, – продолжал он. – Меня просто мутило. Слепое создание без малейшего проблеска мысли… Крохотные ручки и ножки со студенистыми косточками… Повинуясь какому-то таинственному закону, клетки в один прекрасный день прекращают свой рост… Почему мы начинаем ссыхаться?.. Почему превращаемся в таких вот, какими мы нынче стали? – добавил он со вздохом. – Кончаешь жить, так ничего и не поняв, точь-в-точь как этот младенец.
– Здесь нет никакой тайны, одна только воля Божья, – заметил Урбен де Ла Моннери. – А когда становишься стариком, как мы с вами… Ну что ж! Начинаешь походить на старого оленя, у которого притупляются рога… Да, с каждым годом рога у него становятся короче.
Ноэль Шудлер вытянул свой огромный указательный палец и пощекотал ручку младенца.
И тотчас над колыбелью склонились четыре старика; из высоких туго накрахмаленных глянцевитых воротничков выступали их морщинистые шеи, на отечных лицах выделялись лишенные ресниц багровые веки, лбы, усеянные темными пятнами, пористые носы; уши оттопыривались, редкие пряди волос пожелтели и топорщились. Обдавая колыбель хриплым свистящим дыханием, отравленным многолетним курением сигар, тяжелым запахом, исходившим от усов, от запломбированных зубов, они пристально следили за тем, как, прикасаясь к пальцу деда, сжимались и разжимались крошечные пальчики, на которых кожица была тонка, словно пленочка на дольках мандарина.
– Непостижимо, откуда у такого малютки столько силы! – прогудел Ноэль Шудлер.
Четверо мужчин застыли над этой биологической загадкой, над этим едва возникшим существом – отпрыском их крови, их честолюбий и ныне уже угасших страстей.
И под этим живым четырехглавым куполом младенец побагровел и начал слабо стонать.
– Во всяком случае, у него будет все для того, чтобы стать счастливым, если только он сумеет этим воспользоваться, – заявил, выпрямляясь, Ноэль Шудлер.
Гигант отлично знал цену вещам и уже успел подсчитать все, чем обладает ребенок или в один прекрасный день станет обладать, все, что будет к его услугам уже с колыбели: банк, сахарные заводы, большая ежедневная газета, дворянский титул, всемирная известность поэта и его авторские права, замок и земли старого Урбена, другие менее крупные состояния и заранее уготованное ему место в самых разнообразных кругах общества – среди аристократов, финансистов, правительственных чиновников, литераторов.
Зигфрид Шудлер вывел своего сына из состояния задумчивости. Дернув его за рукав, он громко прошептал:
– Как его назвали?
– Жан Ноэль, в честь обоих дедов.
С высоты своего роста Ноэль еще раз бросил цепкий взгляд темных глаз на одного из самых богатых младенцев Парижа и горделиво повторил, теперь уже для самого себя:
– Жан Ноэль Шудлер.
С городской окраины донесся вой сирены. Все разом подняли головы, и только старый барон услышал лишь второй сигнал, прозвучавший более громко.
Шли первые недели 1916 года. Время от времени по вечерам «Цеппелин» появлялся над столицей, которая встречала его испуганным ревом, после чего погружалась во тьму. В миллионах окон исчезал свет. Огромный немецкий дирижабль медленно проплывал над потухшей громадой города, сбрасывал в тесный лабиринт улиц несколько бомб и улетал.
– Прошлой ночью в Вожираре попало в жилой дом. Говорят, погибло четыре человека, среди них три женщины, – проговорил Жан де Ла Моннери, нарушив воцарившееся молчание.
В комнате наступила напряженная тишина. Прошло несколько мгновений. С улицы не доносилось ни звука, только слышно было, как неподалеку проехал фиакр.
Зигфрид снова сделал знак сыну, и тот помог ему надеть пальто, подбитое мехом; затем старик опять уселся.