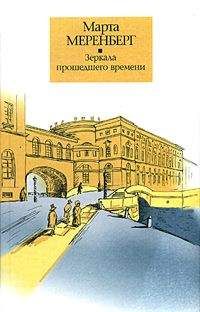– Готов брать уроки, дорогой мэтр, – заявил Жорж, раскланиваясь перед художником на манер мушкетеров и размахивая шляпой. – Обязуюсь расписать все присутственные места в Санкт-Петербурге, включая Третье отделение!..
Что-то, по-видимому, произошло за спиной Дантеса, потому что внезапно онемевший художник выронил кисть, а все звуки из просто громких сразу же превратились в громогласные. Дантес, не разобрав, что происходит, на всякий случай отошел на два шага в тень невысокой ширмы, отделявшей мастерскую от запасника.
– Ну, здравствуй, Адольф Игнатьич, как двигается работа? – загремел под потолком низкий властный голос, который Жорж узнал бы из тысячи. – Красиво, а похоже как! А молодцы-то наши как живые просто! Александр Христофорович, вот взгляни-ка – я тебе говорил…
– Старайтесь, господин художник, и радуйте нас вашими талантами. Талант вы, конечно, несомненный… – вкрадчиво вторил государю генерал-адъютант тоном несомненного одобрения. – А лошадки ваши – просто чудо как хороши! Как настоящие – вот сейчас хлестнет ее этот вот, справа, – и понесется она вскачь…
Разомлевший от похвал Ладюрнер не знал, куда девать руки, и, схватив карандаш, теперь мял его в горячих и потных пальцах. Он не ожидал увидеть государя, да еще и в сопровождении шефа жандармов, и теперь думал, как лучше представить своего приятеля, все еще смущенно мявшегося за ширмой.
– А это кто рисовал? – Николай в изумлении разглядывал портрет самого Ладюрнера, нарисованный в новомодном карикатурном стиле. – Ой, забавно… Тоже ты? – Николай и Бенкендорф, от души веселясь, склонились над портретом.
– Да нет, ваше величество, один из гвардейцев ваших, Жорж Дантес… Он сейчас, кстати, у меня в гостях – да вот и он…
Незаметно появившийся в мастерской Жорж вытянулся по стойке «смирно» и гаркнул:
– Здравия желаю, ваше величество!
– Вольно, – милостиво сказал Николай, пристально разглядывая красивого белокурого гвардейца. – А ты, кажется, недавно служишь в полку ее величества? И как тебе? Тяжело в учении – легко в бою…
Бенкендорф молча следил за императором, не встревая в разговор. Интересно, подумал он, что ты за фрукт, барон Дантес?..
– Для меня большая честь служить вам, ваше величество, – с достоинством произнес Жорж, – и я не мыслил себе другой службы, кроме военной. Поэтому жаловаться не имею намерения – а лишь хотел воспользоваться случаем и поблагодарить вас за вашу исключительную доброту по отношению ко мне, что взяли на службу офицером.
– Постарайся ничем не запятнать звания гвардейского офицера, голубчик, и оправдать мое доверие. Капитан Полетика доволен тобой… значит, и мне не за что тебя упрекать.
Дантес щелкнул каблуками и замер, с восторгом глядя на русского государя. «А он вблизи совсем не так суров, как на своих портретах, – подумалось ему. – Глаза добрые, голубые…»
– А картиночку ты малевал, сознавайся, хитрец! – вдруг вспомнил Николай.
– Я, ваше величество…
– А вот бумагу марать тебе Господь не дал, – смеясь, заявил государь. – Так что время зря не трать… А ты как считаешь, Александр Христофорович?
Бенкендорф для виду снова уставился на карикатуру. Ухмыляющийся во весь рот Ладюрнер с зажатой в зубах огромной кистью выглядел на рисунке и вправду смешно.
– Заниматься каждый своим делом должен, господин барон, – назидательно произнес Бенкендорф. – Я вот, может, хотел бы стишки пописывать – а вместо этого доносы ваши нудные читаю…
Раскатистый смех государя был настолько заразителен, что смеялись теперь уже все четверо.
– Ай, Христофорыч, насмешил! – хохотал Николай, вытирая глаза белоснежным платком с царским вензелем. – Пойдем, батенька! Не будем вас больше задерживать, господа.
Дантес и Ладюрнер почтительно поклонились, и августейшая особа величественно удалилась в сопровождении шефа тайной полиции. Жорж вздохнул с облегчением, но пожилой, грузный Ладюрнер смотрел в сторону, будто задумавшись.
– А кто был с государем? – спросил Жорж, ни разу раньше не встречавший шефа жандармов.
– Генерал-адъютант Бенкендорф… начальник Третьего отделения. М-да-а… что-то мне не верится в эти сказки – просто мимо ехали, просто зашли… Будь осторожен, друг мой…
Любимым занятием Хромоножки с детства было подглядывание. Еще совсем маленьким он, круглый сирота, которого воспитывала престарелая бабушка, обожал шпионить за своими пятнадцатилетними кузинами и высматривал подчас нечто, что заставило бы покраснеть и взрослого. Например, он хорошо помнил то чудесное летнее утро на даче на Островах, когда обе девушки занялись «вышиванием». То есть они, конечно, сперва вышивали, но потом решили играть в «бал» и стали танцевать вальс, подпевая себе, а напоследок решили поиграть в «дам и кавалеров» и вдруг начали целоваться, да как! Маленький Петя, проковырявший перочинным ножичком круглую дырку в стене, отделявшей его комнату от террасы, которую сестры предусмотрительно заперли на ключ, долго не мог оторваться от восхитительного, манящего и столь откровенно порочного зрелища…
Одна из этих юных красавиц несколько лет спустя стала позволять себе странные выходки в его адрес, а однажды, сделав вид, что не заметила его, принялась расстегивать корсет.
То, что он увидел внутри ее корсажа, не произвело на него особого впечатления. Он вообще не мог понять все эти «ахи-вздохи», «перси-ланиты» и прочую чушь, от которой сходили с ума его приятели по Пажескому корпусу. То ли дело – красивые, стройные, загорелые мальчишеские фигурки…
Он ни разу не упустил возможности потискать кого-то из младших курсантов, за кем предварительно вел долгое наблюдение, чтобы иметь на руках все козыри для полноценного шантажа в случае «сопротивления жертвы».
Из Пажеского корпуса его и выгнали с предпоследнего курса за «предосудительное поведение» – попался как последний дурак в туалете, удовлетворяя свою распаленную похоть с мелким ушастым курсантом, плаксой и ябедой… Спасибо Сергею Семеновичу Уварову, пригрел в архиве курсанта-недоучку, поскольку на военную службу его все равно бы не взяли из-за врожденного уродства… Впрочем, Жан ему неоднократно говорил, что хромота придает ему «нечто байроническое», и смотрел при этом такими темными, нежными, влюбленными – глазами…
А потом Петр Долгоруков страстно полюбил театр. Но не только потому, что его необычайно заводило шумное и красочное зрелище. Его очень привлекал темнеющий зал, лорнет, который можно было наводить на соседние и дальние ложи с целью высмотреть нечто интимное – жест, взгляд, нетерпеливое касание руки, поворот головы И трепет «объекта», уверенного, что его никто не видит в темноте. Свет в зале стали гасить совсем недавно, и обвинения в безнравственности посыпались со всех сторон – как от чопорных престарелых дам, так и от разжиревших, безмозглых тупиц мужского пола. Пьер был в неописуемом восторге, когда понял, что во время балета может безнаказанно хватать в темноте несчастного Гагарина, доводя последнего до истерики. Он рассмеялся про себя, вспомнив, как после одного из таких «развлечений в ложе» они еле доехали до дома, продолжая возбуждать и мучить друг друга в закрытом экипаже. Сейчас, собираясь в театр, он вдруг понял, что хотел бы оказаться в соседнем кресле вовсе не с Жаном…
После той дуэли он несколько раз видел Дантеса в салоне у Софи Карамзиной и еще у Александра Строганова, его однополчанина и младшего брата Идалии Полетики. Жорж явно избегал его, демонстративно поворачиваясь спиной, и это страшно бесило самолюбивого Хромоножку. При каждом удобном случае Пьер не упускал возможности наговорить ему гадостей в присутствии дам или однополчан-гвардейцев, на что Дантес обычно пожимал плечами, говоря: «Зачем спорить с больными людьми?» – или: «Подите-ка сюда, Долгоруков, я выбрал для вас самое большое пирожное, чтобы хоть чем-то заткнуть на время ваш огромный рот!».
Их резкие перепалки стали своеобразной отличительной чертой салонных вечеров, куда хозяева специально приглашали обоих, чтобы послушать их остроты. Князь Гагарин, подчеркнуто игнорирующий Дантеса, не мог, однако, не заметить, что его друг слишком часто вспоминает в разговорах молодого chevalierguardeи каждый раз меняется в лице, когда видит его. Гагарину стало казаться, что его «милый друг Пьер» нарочно преследует гвардейца, и он уже больше месяца мучительно ревновал Хромоножку к Дантесу, хотя ни разу не высказал Пьеру в глаза своих подозрений. К тому же Жан, зная непредсказуемый нрав своего приятеля, опасался, что последствия такого разговора могут быть поистине фатальными. Модное словечко, которое часто употреблял Пьер…
Сейчас, сидя в шестом ряду кресел, в ожидании начала новомодной пьесы, Петр Долгоруков был уже раздосадован и взбешен настолько, что с трудом воздерживался от циничных замечаний вслух. Вместо обычной уютной ложи его начальник Уваров на целых две недели, видимо, в качестве «поощрения», оплатил для них «кресла» в шестом ряду партера. Сам он сегодня не явился, потому как, вспомнил Пьер, собирался в лавку к Смирдину за новыми энциклопедиями. Значит, невинные «шалости» с Гагариным на сегодня отменяются, подумал Пьер, тихо зверея и злясь уже на весь белый свет, отравивший его существование до самого конца сегодняшнего вечера.