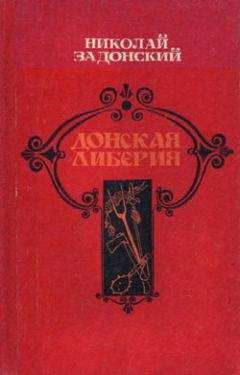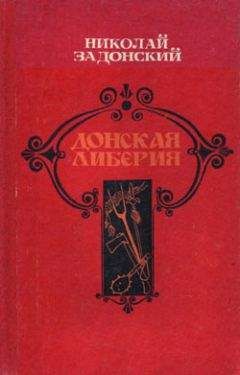– Вот как исполосовали! – сказал он и, зло сплюнув, добавил: – Пес он, Мазепа-то!
– За что же это тебя? – осведомился Петро.
– За карася…
– Как… за карася?
– Карася в пруду поймал… А в маетностях гетмана ни рыбы в прудах, ни зверя в лесах ловить не дозволяется. Гетман особым универсалом запрет наложил. Ну, дозорцы его меня приметили на пруду, скрутили, привели к главному управителю пану Быстрицкому… Тот и распорядился для острастки другим сотню плетей всыпать…
Лунька чуть помедлил, задумался, потом перешел на другое:
– Побачим, как в Сечи-то примут… А то я не против и к Палию податься, ежели возьмешь с собой. Что скажешь?
– Возьму, чего и спрашиваешь, – не замедлил ответить Петро.
Лунька ему понравился. Хлопец, как и он, Петро, был озлоблен на панство, шел искать лучшей доли. Неласковая судьба сдружила их быстро и крепко.
Сентябрьское неяркое, но гревшее еще по-летнему солнце стояло высоко…
Наверное, у многих сечевиков подвело животы от голода, и куренные «кухари» ругали «товариство», но все равно от куреня кошевого никто не уходил.
Сам кошевой атаман Гусак – длинноусый и чубатый, со следами многочисленных сабельных ударов на лице, в полотняной, расшитой шелками рубахе, с люлькой в зубах – сидел с куренными и «стариками» на ковре, под единственной чахлой лозиной. Остальные запорожцы и «молодята» – новопришлые, вольные люди, которых становилось в Сечи все больше и больше, – расположились прямо на земле, подставляя солнцу полуголые, бронзовые от загара потные тела.
Было людно, но не шумно.
Бандурист Остап, высокий, худой старик с вздутыми толстыми жилами на длинной желтой шее, вытер рукавом свитки вспотевший лоб, облизнул сухие губы и, полузакрыв глаза, вновь тронул струны своей бандуры:
Хочь у нашего Семена Палия и не велике вийско,
Тилько одна сотня, да и та голая,
Без сорочек и штанив, тилько з очкурами.
А буде та сотня голая,
Буде та сотня бесштанная,
Буде панскую тысячу убраную,
Аксамитом крытую,
Шовками пошитую, —
Буде мов череду гнаты, у пень рубаты,
Буде великим панам великий страх задавать!…
Старик кончил свою песню, молча и жадно потянулся к подвинутому кем-то жбану с квасом.
Необычная тишина стояла среди запорожцев – недаром любили они старого Остапа, мог он тронуть их души правдивыми и задушевными словами.
Кошевой крутил ус, задумчиво глядел в сторону.
Потом перевел взгляд на Остапа и почти шепотом, словно боясь нарушить тишину, сказал:
– Добре спиваешь, Остап. Чую правду в писнях твоих. Добрый казак Семен Палий… Дуже добрый…
– У него и жинка добрая, – неожиданно громко вставил Петро Колодуб, стоявший вместе с Лунькой Хохлачом в толпе молодят.
Раздался дружный хохот.
– Он ее доброту знает!..
– Ай да Петро! Ловок, бисов сын!
– Смотри, батько Палий узнает – чуб выдерет…
Петро опешил, от досады закусил губы. Потом сжал кулак и так толкнул в бок скалившего зубы молодого казака Гульку, что тот на сажень отлетел в сторону.
– Да ты что, дурень? Драться? – поднявшись и вздернув спадавшие шаровары, закричал казак, наступая на Петра.
– Эй, хлопцы! Негоже! Наперед поведайте, за що бой чинить будете! – вмешался кошевой.
– За издевку, батько, за то, чтоб не повадно было над добрыми людьми изгиляться, – звонко ответил Петро.
– А кого добрыми разумиешь, братику?
– Всех, кто с батькой Палием панов бьет, кто за волю казацкую…
– Це добре! Я думал, за жинку какую, избави бог, казацкая кровь прольется, – сказал, поднимаясь с ковра, кошевой.
– И за жинку, батько, ежели жинка та троих таких стоит, – ткнул Петро пальцем в Гульку.
Тот обиды не выдержал, бросился на Петра, но кошевой опять остановил драчунов, нахмурился:
– А где ты таку жинку видел, чтобы супротив троих казаков стояла? Мабудь, брешешь?
– Нет, батько, правду кажу, – смело глядя в глаза кошевому, ответил Петро. – Сам в Фастове был, когда паны Семена Палия схватили и под стражей в тюрьму свезли… А наутро пришли в Фастов люди чиновные и ксендзы, начали церковь православную поганить, наших мучить. Только даром издевка эта им не прошла. Стали ксендзы по единому пропадать неведомо куда. Собрали паны казаков и ну пытать: кто их ксендзов и куда девает? Казаки не ведают. Согнали их в острог, а ночью самый главный ксендз сгинул… Дивуются паны, и казаки дивуются… А тут скоро батько Палий из тюрьмы убежал, в Фастове объявился и всех мучителей наших сразу перевел…
– То мы слыхали. Про жинку кажи, – перебил кошевой.
– А кто ксендзов допрежь Палия хватал?
– Зараз узнаете… Я среди тех казаков был, что в остроге сидели. Как освободил нас батько Палий, – продолжал Петро, – сами мы во двор его собрались, про ксендзов начали пытать… А он этак усмехнулся, пошел в хоромы и за руку жинку свою вывел. «Вот, – говорит, – кто меня самого из плена высвободил, кто без меня двенадцать ксендзов тайно перебил, кто мне во всем правая рука»… Ну, жинка из себя не дюже тельная, а на лицо пригожая… Был я после в стычке с ляхами, видел, как Палииха рубает, дай бог всякому доброму казаку…
– Ай да Палииха! – восторженно крикнул кто-то.
– За такую жинку биться можно!
– А мабуть, трошки сбрехав? А? – все еще не доверяя, переспросил кошевой.
– Нет. Панове, правда сущая, – вмешался в разговор старик-бандурист. – Меня тоже господь привел не однажды у Семена Филипповича гостевать, – и он, и жинка его за простой народ крови не щадят…[21]
– Наш гетман супротив батьки Палия, як дерьмо супротив каши, – вставил известный всем, старый хромой сечевик Панько.
– От пана Мазепы добра не ждать, – не стерпев, крикнул Лунька. – Уж и ныне шляхтой себя окружил, а казаков перевести хочет…
Зашумели казаки. Разом вспомнили десятки обид, причиненных гетманом, вспомнили, кстати, как тяжело давят народ аренды, введенные ненавистным Мазепой, как жестоко налегает его рука на вольнолюбивое товариство.
А тут, где-то совсем недалеко, живет настоящий казацкий батько, противник всех панов, смелый, счастливый в битвах, ласковый до народа Семен Палий.
Забурлила казацкая кровь. Заколыхалась громада.
– А кто его, Мазепу, в гетманы выбирал?! – кричали казаки.
– Он всех казаков панам продаст, вражий сын!
– Мазепа одних панов любит, нас не жалует!
– Палия на гетманство посадить…
– Палий ведает, як украинских панов к рукам прибрать…
– Хай живе батько Палий!
– Палия в гетманы!
– Па-а-ли-ий! Па-а-ли-ий!.. – слышалось отовсюду.
Кошевой закурил люльку, отошел в сторону. Знал, что теперь шума и гама до вечера хватит.
И никто не приметил, как из дверей куреня вышел на крик молодой, низкорослый, чуть-чуть сутулившийся казак в штофной, узорчатой черкеске, как внимательно вглядывались его большие серые глаза в лица крикунов и зажигались любопытством каждый раз, когда поминалось имя славного казацкого батьки.
Это был приехавший сюда сегодня утром по войсковым делам один из писарей гетмана Мазепы – Филипп Орлик.
Больше всего не любил Иван Степанович Мазепа людей среднего ума и средних способностей.
– Умный для дружбы, дурак для службы, а иных куда – ума не приложишь, – говорил гетман.
Так и поступал. Видит, что глуп казак и «тонкой политики» понять не сможет, – брал такого в сердюки или писаря охотно. Такой подвоха учинить не сможет, тянуться будет, а строго спросишь – не обидится. Если отличался казак умом, Иван Степанович быстро прикидывал, что полезного можно извлечь для себя из чужого ума. Обнадеживал человека, коли нужен был, ласкал, располагал к дружбе. Если же высказывал иной чванство вместо ума, мелкую зависть, был говорлив и суетлив не в меру, – гетман такого никак не жаловал.
Семен Палий был гетману и приятен, и досаден.
Мазепа ценил ум и храбрость фастовского полковника, который имел к тому же и большую воинскую силу, а ко всякой силе гетман всегда относился с большим почтением.
И хотя поднятая Палием гиль грозила многими неприятностями, Мазепа все же решил привлечь его на свою сторону.
«Лучше бы было принять Палия со всеми людьми под царскую руку, – сидя за дубовым резным столом, писал гетман в Москву. – Если Палий, приобретши такую знаменитость, перейдет к неприятелю, то в Малороссии поднимется волнение, многие люди потянутся отсюда к нему, потому что Палий человек военный и в воинских делах имеет счастье…»
Дверь гетманских покоев тихо скрипнула.
Вошел писарь Орлик, поклонился, остановился почтительно у порога.
– Пошел вон. Видишь, я занят, – сурово сказал гетман, продолжая писать.
– Ничего, я подожду, ясновельможный пане гетман.
– Что? – удивился неожиданной писарской дерзо» сти Иван Степанович.
– Важные известия имею, прошу прощенья.
– В канцелярию…