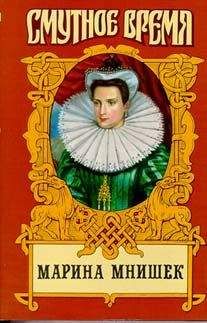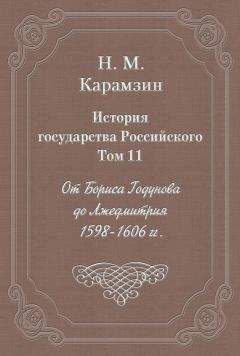— С горчинкой? А государыня той кутьей разговлялась ли?
— Не скажу, княже. Почем мне знать. Слышать приходилось, что с государем вместе завсегда, как птичка-невеличка, клюет. К себе на половину придет, тогда и ест до отвалу. Толкуют, на государя за столом охоты глядеть нет: перепачкается весь, руки обо что ни попадя обтирает. Про то на поварне каждый мальчонка знает.
— Больше разговору о разговленье не было?
— Не было, святой отец. Государь про ход на Иордань толковать начал, что ему с утра идти. Дорога вроде недалека — всего-то от ворот кремлевских к реке спуститься. Вспоминать начал: от каких ворот-то? Запамятовал. На платье большого выхода жаловался: плечи давит. Дышать не дает. Как бы не сомлеть ненароком. Мол, боязно. И еще ноги не слушаются — подгибаются.
— И кто же внимание на жалобы царские обратил?
— А никто, княже. Он ведь больше по привычке царице пенял. Голос тихий, плачливый. Гундел, гундел… Отходя ко сну, стихиру твердить принялся, что на богоявленскую службу читать станут. Истопники сказывали: ни разу не запнулся: «Спасти хотя заблудшего человека…»
— Кто ж той стихиры не знает!
— Не торопись, отец Паисий. Пусть Савва все расскажет, как ему запомнилось.
— Прости, государь, кажется, только время тратить…
— Цыплят по осени считают, что запонадобится. Подождем.
— Так и читал: «…не сподобился еси, в рабий зрак облекшися: подобаше бо тебе, Владыце и Богу, восприяти наша за ны. Тебе бо крещуся плотию. Избавителю, оставления сподобил нас… Тем же вопием Ти, Христе Боже наш, слава Тебе…» Тут его боярин Борис Федорович Годунов и прервал: вот и ладно, сам ты себе, государь, грехи отпустил. Спи, мол, теперь с миром. И прочь пошел.
— Как это — сам себе грехи отпустил?
— Истопники в переходе солому в устье печи закидывали — все слышали. Сами и то диву дались.
— К чему бы такие слова на сон грядущий — вот о чем подумай, отец Паисий. И на том, говоришь, Савва, боярин ушел?
— Порядок в теремах такой заведен: Борис Федорович там всему голова. Ввечеру последним из государевой опочивальни уходил, а то и на всю ночь оставался, поутру первым входил. Никто до него не смел.
— А тем разом что же, царь один был?
— Выходит, один. Утром государя уже закоченевшим нашли: руки-ноги, сказывали, не гнулись. А глаза открыты. Широко-широко.
— Как же ему отпущение грехов — посмертно, что ли, — дали? И посхимили как — над покойником обряд совершили?
— Нет, — владыка так тебе, великий княже, передать велел. Сначала писать собрался, только, поразмыслив, бумаге не доверился. Изустно отпустили грехов скончавшемуся государю. И схимить не стали. Из священнослужителей один владыка патриарх в спальне оставался. Иов.
— Поверить не могу! Православного государя? Молитвенника благочестивого? Кому же быть с новопреставленным, как не попам!
— Не моего ума дело, святой отец. Одно знаю, хоронили государя наспех. Вся Москва диву давалась.
— До всей Москвы дошло?
— Нешто от мира спрячешься, утаишься! А тут положили государя в гробницу не в царском платье, не в монашеском, — сказать стыд, в сермяжном кафтане! Как простолюдина последнего!
— Быть того не может, добрый человек!
— Сталося, уже сталося, княже. Замерла Москва от такого бесчестья своему государю. Поясом, и то простым, ременным, подпоясали! Что пояс — гробницы по росту не подобрали! Невесть откуда малую такую, ровно мальчишечью, раздобыли, и в нее покойника как есть силком затиснули.
— Господи, Боже наш, прости заблудшим душам их прегрешения — не ведают, что творят!
— Я и еще, отче, добавлю. В головах царям сосуд с мирром из самого дорогого венецейского стекла ставят, а государю Федору Иоанновичу — из торговых рядов скляницу самую что ни на есть дешевую спроворили — не устыдились. Как от собаки приблудной, от законного, на царства венчанного государя избавились!
— Вот ты нам и скажи, добрый человек, кто избавился?
— А что тут гадать: Годуновы проклятые. Их рук дело.
— Так владыка Серапион мыслит?
— Все так мыслят. На злое дело они всегда первые, изверги.
— Погоди, погоди; добрый человек! А что владыка мыслит: какой здесь Годуновым выигрыш? То Ирина Федоровна царицей была, теперь по московским-то обычаям одна дорога вдове — в монастырь. Выходит, и шурину царскому со всяческой властью распрощаться придется. Нет им в кончине государевой никакой выгоды.
— И у меня к тебе вопрос, Савва, если великий князь дозволит: кому по духовной престол перейти должон? Деток-то у государя покойного нет.
— То-то и оно, отче. Нет духовной. Нет никакой — ни старой, ни последней, искали, говорят, не нашли.
— Духовной нет? Последней государевой воли? Быть такого не может!
— Объявили уже всенародно: нету. А на словах покойный будто бы одно желание высказывал: царице Ирине в монастырь идти и постриг принять.
— Кто же это слова такие передает?
— Шурин царский — боярин Годунов. Он один тому свидетель.
— Годунов? Чудны дела твои, Господи! А царица что? Ее воля?
— Когда я уезжал, все только о том и говорили: не пойдет государыня в монастырь. Решила: сама будет державой править. Что ж, ведь это ей все государство — дьяки и бояре крест целовали у одра супруга. Что не венчанная она на царство, никто и словом не обмолвился.
— Так это те, что уже у власти стоят. Им перемены ни к чему. Зато те, кому власть только снится, еще свое слово скажут!
— И владыка Серапион так полагает, великий княже.
В ночь с 6 на 7 января 1598-го, по латинскому исчислению, года скончался царь Федор Иоаннович. Последний из рода Ивана Калиты. В западных государствах давно пересказывалось предсказание некоего немецкого звездочета: будут править Московской землей два семейства, каждое по 300 лет, после чего наступит разор и великая смута. Первое трехсотлетие истекло. Русский престол был свободен. Почти свободен. Оставалась царица Александра, инока, принявшая постриг вдова самодержца Ирина Федоровна Годунова.
А царствовал благоверный и христолюбивый царь и великий князь всея России Федор Иоаннович после отца своего, царя и Великого князя всея России Ивана Васильевича, 14 лет праведно и милостиво, безмятежно. И все люди в покое и в любви, и в тишине, и в благоденствии пребывали в те годы. Никогда, ни при каком царе Русской земли, кроме великого князя Ивана Даниловича Калиты, не было такой тишины и благоденствия, как при этом благоверном царе и великом князе.
«Московский летописец»
Утром развиднелось едва — тут и завьюжило. Снег летучий. Сыпкий. В воздухе россыпью, что твои бриллианты, играет. Тишина окрест залегла. Шагу не сделать — заметает. Оно и к лучшему. Без следов.
Посланец Серапионов до рассвета в путь пустился. Провожатого дали — чтоб вопросов поменьше. Еды в мешок наложили, за седлом приторочили — без корчмы долго обойдется. Все, что Серапиону знать надо, на словах князь Константин передал. Бумага — тот же след. За них подчас ох как платить приходится.
Ярошек окна в опочивальне распахнул, вроде теплом повеяло. Да нет — какая там весна! А впрочем — на все Господня воля. Не человеком положено, не по его воле и деется.
— Ярошек!
— Здесь я, ясновельможный княже.
— Лекаря позови в бибилиотеку. Из Академии Джанбаттисту Симона.
— Не заболел ли ты, княже? Неужто нездоровится? Тогда чего ж нашего дохтура не позвать? Нашему верить можно, а тот…
— Не для себя, старик, не печалуйся. Сведаться хочу. Как он?
— На глаза, честно сказать, куда как редко попадается. По твоему приказу, княже, на отлюдье живет. Одних школяров, коли нужда, пользует. Чем ему не жизнь — при таком-то жалованье!
Побежал старик. Осуждает. Только правды и ему знать до конца ни к чему. Не его ума дело. Семь лет назад никто итальянца не звал. С парнишкой приехал. Цену хорошую получил. Домой бы в Италию поспешить. Ан нет, в ногах валялся, чтоб оставить. Так и сказал: дороги, мол, мне обратно нет. Ты, князь, вся моя защита. А лекарь толковый. Вон как парнишку от падучей болезни вылечил. Припадки редко-редко случаются. Да и то, коли Джанбаттисты рядом нет. Прибежит, сразу успокоится. Отварами поит. Не жилец был парнишка — одному итальянцу животом обязан.
— Светлейший князь, вы приказали вашему покорному слуге явиться — я весь внимание. Мне так редко выпадает счастье быть вам полезным.
— Здравствуй, Джанбаттиста. Вот тебе и случай наверстать упущенное. Постороннего человека в Академии видел ли?
— Гонца из Москвы?
— Ну уж — из Москвы. Кто тебе о нем сказал?
— Мне не нужны соглядатаи, светлейший князь. У Джанбаттисты свои глаза и уши. Конь взнуздан по-московски. Седло и сбруя — не здешние. Тем более говор путешественника: мне он куда как знаком. Не то что я — синьор Гжегож сразу заметил. Полюбопытствовал.