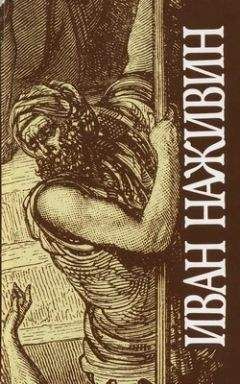Не без волнения поднялись они ступенями Пропилей и свернули к Парфенону, царившему над всей, казалось, Элладой. Не обращая внимания на снующую вокруг толпу, они постояли на его ступенях, потом Священной дорогой, по которой следовали обыкновенно религиозные процессии, пошли в глубь Акрополя. Вот знаменитая Афина Промахос, изваянная Фидием, вот Эрехтейон, строгие кариатиды, безмолвные стражи покоя Кекропса…
Красивый, величественный голос пробудил их от дум. То был Аполлоний Тианский среди своих почитателей.
— Конечно, лучшие произведения греческого резца — это Зевс Олимпийский, Афина Паллада, Афродита Книдская и Гера Аргивская, — говорил знаменитый мудрец. — Слава их гремит по всему миру. Их создала фантазия. Она мудрее подражания. Подражание изображает то, что видит, а фантазия то, чего не видят. Подражание может быть остановлено смущением, но ничто не остановит фантазию: она смело приступает к предмету своего творчества. Хочешь создать образ Зевса? Представь его себе на высоте небес, среди звёзд и вечного течения времени, как представил его себе Фидий. Творишь ли ты Афину — вообрази себе полное вооружение, олицетвори мудрость, окружи её всеми атрибутами искусства и представь себе тот миг, когда она исходит из самого Зевса…
— Должно быть, надо быть великим философом, чтобы спокойно изрекать такие пошлости, — сказал Филет и обратился к Язону: — Не думаешь ли ты, милый, что создать Афродиту Книдскую лучше, чем говорить о том, как её надо создавать? Ну, а теперь пойдём, посмотрим, что делается в ареопаге и на Пниксе. Это превосходные школы: я никогда ещё не заходил туда без того, чтобы не принести домой большой добычи для размышлений…
Около театра Диониса они увидали большую и пышную толпу иноземцев, которые, весело переговариваясь, проходили куда-то. Это был Агриппа II и его красавица-сестра Береника с их свитой, направлявшиеся в Рим и по пути остановившиеся в Афинах. Агриппа, с чуть приплюснутым носом, чувственными губами, большими, яркими глазами, слегка подмазанный и пышный, был очень хорош собой, но несравненно краше и тоньше была Береника, о красоте и лёгких нравах которой шёл слух по всей тогдашней вселенной. Теперь упорно говорили, что она жила с братом своим Агриппой в непозволительной близости. Но безмятежно было это прекрасное, слегка подведённое лицо, и слегка презрительно, как-то поверх голов, смотрели на толпу простых смертных её чёрные, полные огня глаза, так необыкновенно сочетавшиеся с её пышными золотистыми волосами. У неё было достаточно вкуса, чтобы заменить для Афин пышно-тяжёлые одеяния иудейской царевны прекрасно-простым одеянием гречанки. И не было на ней никаких драгоценностей, кроме золотых обручей, которые сдерживали золотой поток её волос… Язон издали смотрел на неё, не отрывая глаз, и в глазах этих был и невольный восторг, и глубокое смущение, которое поднималось в нем всегда при близости прекрасной женщины, и тот ничем непередаваемый ужас, который вызывали в нем слухи о ней… Береника издали заметила и смущение прекрасного юноши, и его сдержанный восторг, и, узнав от близких, что это и есть знаменитый Маленький Бог, призывно улыбнулась ему. Для неё не было в жизни иного содержания, как красота, любовь, блеск — только жизнь-праздник, жизнь-торжество признавала эта жрица Афродиты пенорожденной… И ещё больше смутился Язон от этой улыбки её…
— Ну, идём, — тронув его за руку, проговорил Филет. — Смотри, какая толпа направляется к ареопагу… А, да это ведут того самого проповедника-иудея, о котором я рассказывал тебе! Пойдём и мы послушаем его…
В самом деле, то был Павел, окружённый немногими верными, — в Афинах, несмотря на настойчивость его проповеди и в синагоге, и на агоре, и на углах улиц, он не имел никакого успеха. Насмешники афиняне смеялись и над жалкой наружностью его, и над бедной, спотыкающейся фразой, и в особенности над теми явными нелепостями, с которыми он осмеливался выступать перед духовной столицей мира. И он все более и более робел…
Толпа задержала Язона и Филета у входа, и когда они вошли в ареопаг, Павел стоял уже перед старейшинами афинскими и, некрасиво и неуверенно разводя руками, говорил. Как для Язона, так и для Филета все в Афинах было своим, каждый камень говорил им, каждое имя было родным. Для Павла же все было тут чуждо и враждебно, и в Афинах он прежде всего видел город, полный идолов, на которых он смотрел с ненавистью и отвращением. И в Антиохии, и в Эфесе, и в Фессалониках он встречал вражду, — тут он наткнулся на снисходительную усмешку. И он сразу почувствовал, что для его дела это много страшнее…
— Афиняне, — услышали среди шума толпы Язон и Филет крикливый, задыхающийся голос, — я по всему вижу, что вы как-то особенно набожны. Проходя городом вашим, я видел изображения многочисленных богов ваших. И среди многих жертвенников увидел я также и жертвенник, посвящённый Богу Неведомому…
— А, невежа! — презрительно уронил кто-то позади Язона. — Не знает даже греческого языка как следует, а берётся поучать… Хотел бы я знать, где видел он в Афинах жертвенник Богу Неведомому!
— Сего-то Бога, — продолжал Павел, — которого вы, не зная, чтите, и пришёл я проповедать вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живёт и не требует себе служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дал жизнь и дыхание, и все. От одной крови произвёл он род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые сроки и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли они Его и не найдут ли…
— Странная игра! — склонился один из старцев ареопага к другому. — Для чего же нужно этому богу так прятаться?
Тот только усмехнулся в белую бороду.
Старцы слишком много видели и слышали всего, чтобы придавать значение некрасивому крику этого иудея…
— …Хотя Он и недалеко от каждого из нас, — продолжал Павел, чувствуя это безразличие и все более и более смущаясь им, — ибо мы Им живём и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род»…
— Не помню, какой это из стихотворцев провозгласил такую истину, — услышал опять сзади Язон. — Он просто смешон со своими претензиями…
— Итак, мы, будучи род Божий, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого, — уже слегка охрипшим голосом кричал Павел. — Так, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем повсюду людям покаяться…
— Что значит покаяться? — сказал кто-то в толпе.
— Что за дубовая логика!..
— И что за стиль!..
— И почему может он знать, что повелевает его бог?..
— …ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, — продолжал Павел, — посредством мужа предопределённого, подав удостоверение всем, воскресив его из мёртвых…
— А ты говорил, что Анастасия[5] — богиня… Видишь, я правильно передал, что он говорит о воскресении какого-то бога…
— Какого бога? Он только что говорил о муже, а совсем не о боге…
— Клянусь Аполлоном, у меня в голове все кругом пошло!.. Вот напустил туману!..
— Ну, продолжение завтра, — решительно сказал кто-то и пошёл к выходу.
— Да, это самое лучшее. Идём по домам, граждане…
— Пойдём и мы, Язон, — сказал Филет. — Он говорит, как варвар…
Они молча пошли среди оживлённой толпы. В душе Язона победно сиял чарующий образ Береники. Может быть, то, что говорят о ней, простые сплетни завистников… Она слишком хороша, чтобы все это было правдой…
— Появление в виду Акрополя этого нескладного иудея символ, — задумчиво сказал Филет. — Много уже есть теперь в Афинах гречанок, которые без ведома мужей отправляют в тишине своего гинекея поклонение иноземным богам — больше всего египетским. И вот на наших глазах приехал из Азии новый бог — кто говорит один, а кто и два. Это нашествие богов-варваров и есть знамение времени. И, может быть, ты увидишь, как под напором их греческие боги отступят в небытие. Я не верю, что иудеи, как утверждал Посидоний Апамейский, стоик, поклоняются ослиной голове, но все эти их невежественные болтуны стоят, пожалуй, ослиной головы…
VII. СРЕДИ ОЛЕАНДРОВ ИЛЛИСУСА
В богатом дворце Иоахима ключом кипели огромные дела. Со всех концов света съехались к нему управляющие, и он, точно бог какой, едва уловимо управлял общим ходом дела, и тысячи тысяч людей во всех концах земли творили волю его и несли ему золото и всякие богатства. Теперь его особое внимание привлекала пшеница с берегов Борисфена, через Ольвию, — она приходила оттуда значительно дешевле египетской, — великолепные меха, которые доставлялись с верховьев этой таинственной реки, и, наконец, драгоценнейший янтарь с берегов грозного Северного моря. Требование на него росло беспрерывно, а вместе с требованиями росли и цены. Нерон в особенности сходил с ума от янтаря. В Риме маленькая фигурка из янтаря ценилась много дороже живого раба. Кроме того нужно было решить важный вопрос по откупам: разорение населения усиливалось везде, необходимо было сделать римскому правительству представление об уменьшении цены откупов и подкрепить его удостоверениями местных властей. Это будет стоить недёшево. В результате этого в карман Иоахима должны будут попасть многие миллионы, а верёвка на шее римского правительства затянется ещё крепче. Игра становилась немного уже опасной, но Иоахим о громоотводах уже позаботился: маленький — а то даже и не маленький — мятеж где-нибудь в Паннонии, на Рене[6] или в Иудее всегда может немножко смирить высокомерие цезаря…