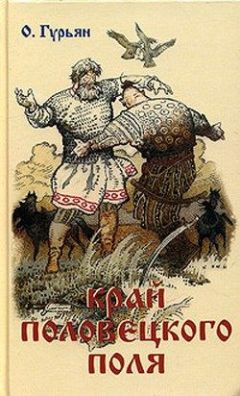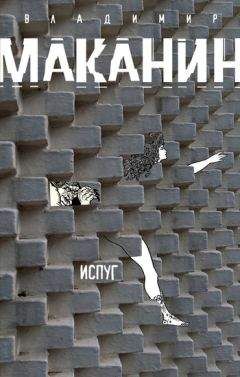Вахрушка теребит Ядрейку, просит:
— Пойдем моей матушке гостинцы покупать.
— А чего ж ты ей подаришь? — спрашивает Ядрейка.
— А первым делом куплю ей кожаные полсапожки. Находилась уж она в лаптях. Как сафьяновые полсапожки обует, краше ее никого на селе не станет.
Отправились они на дом к сапожнику полсапожки выбирать. А у него полсапожек готовых нет. Он только на заказ работает.
Сапожник хвастает:
— У меня заказчики все только именитые — и из дружинников есть, и купецкие жены.
Колодки показывает. На каждой колодке заказчика имя нацарапано, не спутать бы. А чего там путать? Немного их: на пальцах считать, одной руки пальцев хватит. Зато старой обуви навалена большая куча. На иные сапоги каблуки набить, на другие подметки подкинуть. А иные уж вовсе износились, не починишь. Однако ж кожа еще на заплаты, на другие сапоги годится.
— Так нету полсапожек? — спрашивает Вахрушка, а у самого голос дрожит.
— Нету, милок, нет, готовых не держим.
— Да ты не кручинься, Вахрушка. В пятницу на торгу купим, — говорит Ядрейка. — Чего еще матери дарить будешь?
— Колечко на правую руку и еще бы кольца височные. Свои-то она в голод променяла. Ей бы кольца новые, она бы всех краше стала.
У кузнеца товару много. Больше всё топоры да серпы, однако же и кольца есть, и подвески, и гривны медные, витые, на шее носить. Много товару — к пятнице, к торгам заготовил. И один там браслет уж так хорош — глаз отвести невозможно — накладного серебра и на нем две птички.
Кузнец, бессовестный, чересчур дорого запросил: всех Вахрушкиных денег, за лодку вырученных, всей его доли, не хватит. Ядрейка ему половину сулит, кузнец немного сбавил, Ядрейка надбавил — опять не сошлись. Ядрейка к выходу повернул, а Вахрушка его за рукав тянет.
— Купим, купим, уж больно хорош!
Кузнец услышал, еще чуть-чуть сбавил.
— Берите, себе в убыток отдаю.
— Нет, — говорит Ядрейка. — Дорого! В пятницу на торгу за полцены получше купим.
С тем и ушли.
Но уж в пятницу всего накупили. Полсапожки сафьяновые, мягонькие, выворотные, по красной коже тиснение. Браслет широкий из четырех пластин, а на нем узор цветной, финифтяный, синий, желтый и зеленый, завитками и листьями. Не простой браслет — киевской работы. И еще платок шелковый, яркий.
— Не ярок ли будет? — говорит Ядрейка.
— Нет, — говорит Вахрушка, — не ярок. Она у меня красивая. Ей такой платок к лицу будет.
Еще вспомнил Вахрушка, что у матери один только горшок остался. Хотел горшков накупить — мужик целый воз привез на торги. Но Ядрейка воспротивился. Тяжело нести будет, а споткнешься, упадешь, так все переколотишь.
Все деньги Вахрушка потратил, на последние купил жареных пирогов с печенкой, угостил Ядрейку.
В субботу пустились они в путь. По селам нигде не задерживаются. Иной раз попутный возчик их подвезет. Оглянуться не успели, двух недель не протекло, а вот уж они к Вахрушкиному селу подходят.
У Бахрушин сердце во рту бьется, ладони вспотели. Вырвался он вперед, бежит, котомку с гостинцами к груди прижал.
Околица.
Землянка.
Что это?
Дверь с петель сорвалась, рядом валяется. Крыша дерновая провалилась, на ней березка выросла. Заглянул внутрь — земля, мусор по колено, в брошенном дырявом лукошке вывела кошка котят. Они еще слепенькие, пищат, ползают.
— Матушка!
Бросился Вахрушка к соседней землянке. Ногами, руками в дверь колотит. Женщина отворила, он ей слова не дал сказать, кричит:
— Где матушка?
— Ой! — говорит женщина. — Да это ты, Вахрушка? Ой, да как вырос да подобрел. И откуда ты взялся? Мать-то к тебе уехала.
— Как уехала? Куда?
— Уехала. Письмо получила да уехала…
«Ой, письмо! Волшебное письмо на стреле! Зачем же она уехала, ведь он велел ей дожидаться…»
— Да зачем она уехала?
— Каков же ты непонятлив. По письму и уехала, — говорит женщина. — Да зайди ты в избу, я тебе все расскажу.
— Некогда! — кричит Вахрушка. — Здесь рассказывай.
— По весне то случилось, — начала женщина свой рассказ. — Пришел к нам в село коробейник. А в коробе у него и каменные пряслица, и бубенчики, и стеклянные бусы. Он много не наторговал, много купить нам не под силу. Юрина старуха невестке пряслице купила, Федоска взяла низку бус к подвенечному убору. Кто ж еще, дай-ка вспомнить! Наталья приглядела бусину большую в синюю полоску, да не взяла…
— Про письмо говори!
— Про письмо? А что про письмо? Коробейник этот письмо-то принес. Спросил про твою матушку и письмо ей подал…
«Почему же стрела не на колени ей легла, а чужому человеку в руки далась?…»
— Подал он ей то письмо и на словах пересказал, что там было написано. А она живо собралась, со всеми нами простилась, говорит: «Ухожу я в город, там меня муж дожидается, и Вахрушка мой уже там». И ушла.
— В какой город?
— Не ведаю я. Не назвала она город-то.
Ох, горе! Ох, беда! Как же это стрела волшебная-то все напутала-перепутала? Где же теперь матушку искать? Много на Руси городов-то.
Глава тринадцатая ПОСВИСТ
В каком городе искать, с которого поиски начинать?
— Не иголку в копне сена ищешь, — говорит Ядрейка. — Найдется твоя матушка.
Известно, найдется.
— Не тужи, Вахрушенька, — говорит Еван. — Идем с нами в Путивль-город. Авось она там найдется.
Авось найдется.
Повеселел Вахрушка. Раз говорят найдется, так найдется.
Вот ушли они из села, прямо на восток идут, солнышку навстречу. Солнышко на закат катится, а они к востоку, к восходу идут.
Евану не терпится скорей на место прийти, своим домом обзавестись, всем хозяйством. Он в сторону не сворачивает, по селам не задерживается, напрямик лесом прет. Дело летнее, ночи теплые. Переночуют под кустом, днем на полянке костер разведут, кашу сварят, похлебают.
Вот сидят они — день-то такой пригожий, — каша в горшке булькает, хлеб, ломтями порезанный, положен на лист лопуха. Ложки облизали, сейчас обедать будут.
И вдруг свист по лесу. Ой, свист-посвист резкий какой да пронзительный. Закачались от того посвиста кусты, с веток листья прямо в кашу посыпались. И из кустов выскакивают четыре молодца. Рожи немытые, рубахи рваные, а в руках топоры да ножи.
Чур-чур, пронеси лихо мимо!
А молодцы-разбойнички топорами машут, кричат:
— Отдавай свое добро, а не то зарубим!
И не стали дожидаться, дадут иль не дадут, а прямо накинулись на скоморохов, все их пожитки из котомок вытрясли, разворошили, у Евана с шеи ладанку сорвали, распороли, а там золотая бляха, что Игорь Святославич им за свое спасение пожаловал. Они бляху друг у друга рвут, гогочут, радуются, на зуб спробовали, настоящая ли? В пожитках роются. Ядрейкину птичью голову, с которой он плясал, в кусты закинули. Еванову корону золоченую с бубенцами схватили, думали, тоже золотая.
А как увидели, что лубяная, со злости ногами растоптали.
Тут один разбойничек носом повел, закричал:
— Ой, горелым пахнет, каша подгорает. Не пропадать же добру.
Сели в кружок, из онучей ложки вытащили, стали кашу хлебать и говорят скоморохам:
— И вы садитесь с нами, поешьте, на всех хватит. Мы люди добрые, справедливые. Вы эту кашу заварили, нехорошо будет, если мы сами все съедим, вам не дадим.
Скоморохи ограбленные сидят, кашу со слезами глотают, а ослушаться не смеют — у тех топоры. Похлебали немножко. Разбойники кашу доели, дно у горшка выскребли, горшок об дерево трахнули, черепки посыпались. Подхватили разбойники скоморошье добро и во мгновение скрылись, будто их и не было. Будто сон полуденный страшный. Будто ударил гром из ясного неба, крепкий дуб в щепы разнес, и опять все тихо.
Ядрейка полез в кусты, птичью голову выволок. Длинный клюв у него треснул, хохолок на затылке растрепался. Смотрит Ядрейка на птичью голову, говорит:
— Эх, опять сначала начинать!
Еван сидит бледный, челюсти сжал, скулы желваками выступили. Прямо перед собой смотрит, ничего не видит. Обезумел.
— Что же, — говорит Ядрейка. — Долго ли нам здесь сидеть? Слезами горю не поможешь. Надо нам из леса выбираться, людское поселение искать. Поскачем, попляшем, опять заживем по-прежнему.
А Еван не слышит. Сидит, дышит тяжело, рукой за сердце схватился.
— Ох, Вахрушка, — говорит Ядрейка, — подбери черепок побольше, набери воды из родничка. Надо его водой спрыснуть.
Спрыснули Евана водой, он глазами захлопал, утерся, вздохнул и говорит:
— Испить дайте!
Вахрушка еще водицы зачерпнул. Еван отпил, поднялся и говорит:
— Ну, пошли!
Пошли они. Что уж там рассказывать, как они шли. Леса-то дремучие, непроходимые. А они идут.