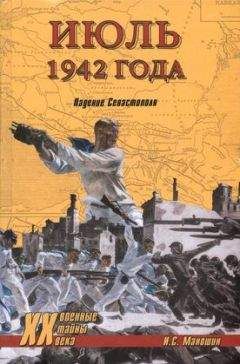— С Витькой ушла, — визгливо сказала какая-то дама.
Игорь Иванович быстро просчитал: подсобников звали Шурка и Костя, завмага звали Виктор Павлович, но его никогда не назвали бы Витькой, значит, ушла с сыном. Уйти могла или в поликлинику, или вызвали в школу. Анька — человек известный, ни там, ни там томить не станут, долго не задержат.
Игорь Иванович занял своё место в очереди, терпеливо перетаптывавшейся на морозе и вжимавшейся в одежду для наилучшего сохранения тепла. — Давно она ушла? — поинтересовался Игорь Иванович, но вопрос растворился в морозном воздухе, в тишине, нарушаемой лишь поскрипыванием снега под переступавшими с ноги на ногу сдавальщиками.
— Такие молодые — и уже пьяные,— сказала бабёнка с тремя бутылками, заметив на подходе двоих парней.
Один был в распахнутом ватном бушлате армейского образца, свалявшемся замусоленном шарфике, не прикрывавшем голую красную шею, и огромных валенках, в которые, казалось, можно было бы влезть даже в сапогах. Парень остановился, счастливой улыбкой приветствуя общество.
Второй направился прямо к объявлению на двери. Его красные от мороза пальцы цепко держали за толстое горлышко по паре бутылок в каждой руке, глянцево поблескивавших, как заледенелые головёшки с зимнего пожарища.
— Прокол? — всё еще улыбаясь, то ли спросил, то ли констатировал тот, что в бушлате. Неожиданное препятствие рушило планы, но ещё не испортило настроения.
Тот, что читал объявление, стал дергать дверь.
Парень был здоровущий, и дверь опасно задрожала, грозя вместе с дверной рамой вывалиться наружу, а тогда, мелькнуло у Игоря Ивановича, Анька закроется самое малое на неделю.
— Вы, ребята, нечего здесь мешать. Или стойте, как положено, или нечего балаганить. Вот так вот! — не глядя на парней, а скорее ища поддержки у очереди, объявил Игорь Иванович.
— Батя, — сказал счастливый парень, убежденный в возможности найти общий язык с любым человеком на свете, так как любому на свете понятно их положение,— нам же на «фаустпатрон» не хватает! — И потряс тяжелыми бутылками.
— А мы что, на хлеб сдаём, что ли? — высунулся мужичок из поднятого воротника.
Все рассмеялись, парни тоже, только Игорь Иванович, приготовившийся к серьёзному, смеяться не стал.
— Мамаша, — сказал счастливый, — вы будете стоять?
— А как же!..
— Сдайте наши… Вам же всё равно!
— Что я вам, приёмный пункт? — сказала женщина с тремя бутылками в сетке. — Все стоят, и вы стойте.
— Мы не можем, нас люди ждут,— поспешил на помощь другой.
— Вас пьяницы такие же ждут, а у меня дети дома оставлены, — сказала общительная тетка.
Счастливый помрачнел, обвёл очередь взглядом, словно перебирал, с кем бы заговорить. Все смотрели куда-то мимо.
— Лю-юди… — выдавил парень злую усмешку, посмотрел на бутылки и, коротко размахнувшись, жахнул о стену сначала одну, потом вторую.
— А ну не хулиганить! — грозно сказал Игорь Иванович.
— Всё в порядке, батя, держи, — сказал парень и поставил рядом с его ботинками четыре больших бутылки. — Алик, давай твои! — И поставил ещё две. — Держи, папаша, сдашь, как положено, купишь, как положено… Нос не отморозь!
Парни размашисто зашагали прочь.
«В таких валенках, в бушлате ватном, — подумал Игорь Иванович, — и полдня простоять можно».
— Бери бутылки-то, бери… Ишь, раскидались, — сказала общительная женщина.
— Вот напьются, а потом нервы треплют и себе и людям, — сказала женщина с тремя бутылками.
— Посуду берёшь? — снова высунулся из воротника мужичок.
В душе Игоря Ивановича клубились змеи.
«Шесть штук по семнадцать… Больше рубля… Я их на место поставил, к порядку призвал, а теперь подбирать… Взять надо, но так, чтобы не уронить себя… Надо сетку достать… Больше рубля, это ещё три пива. Три да три, шесть бутылок пива, куда его столько, тут можно что-нибудь и посущественней…»
Если бы Игорь Иванович вот так еще минут десять — пятнадцать постоял около этих злосчастных бутылок, свыкся бы с ними, свыкся бы с мыслями о них, то скорее всего каким-нибудь естественным неторопливым жестом и переставил бы эти законные трофеи в свою сетку, но тут опять вывернулся тот, из воротника.
— Берёшь, нет? — И взял одну бутылку в руки словно для того, чтобы разглядеть, не обито ли горлышко, нет ли чего внутри. — А чего, нормальная бутылка. — И положил к себе в торбочку, специально для этого извлеченную из кармана. — Мне так очень даже сгодится.
Потом взял вторую бутылку и тоже для приличия стал её изучать.
Игорь Иванович пнул бутылку, стоявшую рядом, и та завертелась на утоптанном снегу.
— Наставят тут! — Игорь Иванович отступил в сторону.
— А мне в самый раз, — сказал мужичок и, уже не разглядывая каждую, собрал остальные и побежал за откинутой Игорем Ивановичем.
— Ишь, шустрый какой, — сказала женщина с тремя бутылками. — Тебе их дали, что ли?!
— Я товарища спросил, он не хочет, а мне в самый раз… Нормальные бутылки, — буркнул и утонул в поднятом воротнике.
Женщинам ничего не оставалось как обменяться осуждающими усмешками по поводу пронырливого мужичка.
На улице по-утреннему было холодно и пусто.
Игорь Иванович не только боялся холода, но и как бы даже опасался, что кто-нибудь эту боязнь заметит.
— Хорош морозец, — неожиданно и даже к общему удивлению произнес он, ни к кому не обращаясь, и замер, энергично перебирая пальцами ног в ботинках.
Знаменитый полярный исследователь, скорее всего Амундсен, утверждал, что холод, мороз — это единственное, к чему не может привыкнуть человек, и случись ему сейчас стоять рядом с Игорем Ивановичем и понимать по-русски, он непременно бы заинтересовался в высшей степени неожиданным для человека в кепке и легких ботиночках заявлением. В этой связи необходимо сделать ещё одно отступление, чтобы окончательно ввести наконец повествование в его фантастическое русло.
Город Кронштадт, разместившийся на плоском и низменном острове Котлине, следует признать местом, благоприятным для разыгрывания фантастических историй наряду с Загорском и Гатчиной. И то сказать, что никто не удивляется, читая в официальных описаниях событий, происходивших на этом острове, загадочные с точки зрения повседневного сознания сведения.
С достоверностью известно, что в сентябрьском вооруженном восстании 1905 года участвовали 3 тысячи матросов и полторы тысячи солдат, а при подавлении стихийного революционного выступления было арестовано 4 тысячи матросов и 800 солдат, из коих 10 человек отправились на каторгу, а 67 угодили в тюрьму.
Куда более загадочные и необъяснимые с точки зрения положительной науки следы оставил в официальных изданиях кровавый мятеж 1921 года. Военные историки будущих времен немало удивятся, узнав, что потери среди атаковавших первоклассную морскую крепость с открытых всем ветрам ледяных полей, где и укрыться-то можно только за трупом павшего прежде тебя товарища, потери очень скромные — 527 человек, в то время как защитников крепости в ходе штурма погибло вдвое больше; чувство удовлетворения вызывает и утверждение, что ранен среди атаковавших был лишь один человек из десяти. С точки зрения милосердия и человеколюбия эти сведения весьма утешительны, но тут же возникают совершенно ненужные вопросы. Значит, не потеряла бригада Тюленева за первый час боя ровно половину своего состава? А ведь бригада — это три полка минимум. Значит, и бригада Рейтера, первой ворвавшаяся на Петроградскую пристань Кронштадта, за двадцать минут боя не поредела на треть? Значит, и у Итальянского пруда не полёг 3-й батальон Невельского полка? И бригадная школа, брошенная на прикрытие отхода обескровленных и разбитых невельцев, не погибла целиком? И не докладывал комдив истекающей кровью Сводной дивизии, уцепившейся за восточный край острова, что нет больше человеческих сил держаться и возможен отход во избежание полного истребления? И зачем только питерцы помнят, как 8 марта 3 тысячи беззаветных красных курсантов были брошены юным командармом-7 на штурм тридцатитысячного гарнизона крепости, как по дороге к твердыне брали курсанты штыком и гранатой оледенелые неприступные форты, как вошли-таки, ворвались в город и в городе дрались да там и полегли, не помышляя о славе, не помышляя о том, как боящиеся простуды и служебных неприятностей историки из соображений высшего порядка их смерть и кровь сочтут не имевшими места.
Кронштадтский мятеж в отличие и от октябрьского кронштадтского восстания 1906 года ещё терпеливо поджидает своего историка.
Странно отразились события февраля и марта 1921 года в противоречивых и удивительных сведениях о них. А началось всё с того, что об этих событиях постарались забыть. Пятитомная история в фундаментальном бордовом переплёте, украшенная портретами и картинами, любовно прикрытыми плащаницей из папиросной бумаги, снабженная даже нарукавной повязкой красногвардейца, история, дотошно освещающая всю гражданскую войну по самый её край в 1922 году, не содержит на своих веленевых страницах ни рассказа, ни упоминания о мятеже, представлявшем, по мнению Владимира Ильича Ленина, для советской власти опасность большую, «чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые». Даже воспоминания участников событий, частично дошедшие до нас, появлялись на свет то без начала, то без конца, а то и вовсе без середины. Мемуаристы, иногда и в глаза друг друга нё видевшие, будто по сговору впадают в немоту и беспамятство, едва дело коснется выдворенных за пределы истории подробностей. Отдельные исторические лица, возвышавшиеся на авансцене революции и гражданской войны, сыгравшие какую-то роль и в кронштадтских событиях, вдруг исчезали словно подо льдом вместе с сотнями безымянных красноармейцев и курсантов, атаковавших вьюжной ночью неприступную морскую крепость. Даже округлённый подсчет жертв с той и с другой стороны, где цифры заканчиваются двумя и тремя нолями, вызывает не только печаль от небрежения десятками, не говоря уж о единицах, но и ставит в укор историкам и статистикам их поспешность в изложении совершенно правильных выводов, минуя частности и подробности…