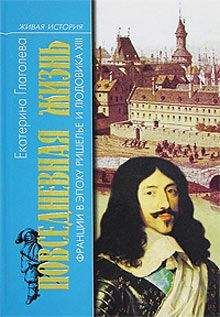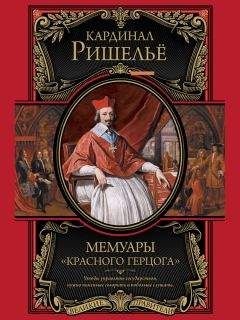Они сидели в одной и той же комнате, но каждый оставался внутри собственной вселенной. Филиппа уже перестала быть ребенком, но еще не превратилась в женщину; она обитала в розовом мире фантазий, расположенном между невинностью и зрелостью. Истинным своим обиталищем девушка считала не Луден, населенный грубиянами, занудами и ханжами, а некий воображаемый рай, весь озаренный светом любви и чувственных переживаний. И в этом рае был свой бог: темноглазый, с подкрученными усами, с белыми, тщательно ухоженными руками. Эти руки распаляли воображение Филиппы, вгоняли ее в краску. А сколько ума, сколько знания было в этом человеке! Сущий архангел — мудрый, прекрасный и добрый. К тому же он говорил, что и она умна, хвалил ее прилежание, а более всего душу будоражили его взгляды. Возможно ли, чтобы и он тоже?.. Нет-нет, сама мысль об этом представлялась кощунственной, греховной. Но как же дать ему знать о своих чувствах?
Девушка попробовала сосредоточиться на латинской фразе.
Тифе senex miles, turpe senilis amor[21].
Филиппу охватило смутное, но необоримое томление. Внезапно она представила неизъяснимые наслаждения, почему-то самым непосредственным образом связанные с этим проникающим в душу взором, с белыми, но мужественными руками. Страница с текстом поплыла перед глазами, Филиппа сбилась и пробормотала: «Грязный старый вояка». Наставник слегка шлепнул ее линейкой по руке и строго сказал, что, будь она не девицей, а мальчиком, он наказал бы ее за подобную ошибку куда более строгим образом, и выразительно помахал линейкой. Гораздо более строгим, добавил он с намеком. Филиппа взглянула на него и быстро отвернулась. Ее щеки залились краской.
Франсуаза, уже успевшая свыкнуться с безмятежным существованием замужней женщины, рассказывала сестре о матримониальных радостях. Филиппа слушала с интересом, но в глубине души была уверена, что с ней все произойдет совсем по-другому. Мечты теснились чередой, обретая все новые и новые формы. Вот она живет со священником в качестве его экономки. Нет, его назначили епископом Пуатевенским, и он велел построить подземный ход между епископским дворцом и ее домом. Или еще лучше: ей откуда-то досталось в наследство сто тысяч ливров, он покинул лоно церкви, и они живут, как муж и жена, проводя время то при королевском дворе, то в деревенском поместье.
Но рано или поздно реальность вступала в свои права, и Филиппе приходилось вспоминать о том, что она — дочь прокурора, а господин кюре, даже если и любит ее (впрочем, в этом не было никакой уверенности), никогда не сможет признаться ей в своем чувстве. Да если и признается — как порядочная девушка, она должна будет заткнуть уши. И все же сколько счастья доставляло ей, сидя за книгой или за вышивкой, воображать невообразимое. А каким счастьем было услышать его шаги, его голос! Восхитительная пытка, небесная мука — сидеть с ним рядом в отцовской библиотеке, переводить Овидия и нарочно делать ошибки, чтобы послушать, как он угрожает ее выпороть. Слушать этот звучный, красивый голос, рассказывающий ей о кардинале Ришелье, о мятежных протестантах, о войне в Германии, о воззрениях иезуитов на Божью благодать, о его собственных видах на будущее. Ах, если бы это продолжалось вечно! Но мечтать об этом было все равно, что мечтать о вечно длящемся летнем закате или о никогда не кончающейся золотой осени — только из-за того, что мадригал так прекрасен, а предвечерний свет окутывает все вокруг сказочным сиянием. В глубине души Филиппа знала, что обманывает себя, но не желала прислушиваться к голосу рассудка, делала вид, что живет в раю, где ход времени остановился и никогда больше не возобновится. Счастливые недели тянулись одна за другой. Разрыв между вымыслом и реальностью перестал существовать. Повседневность и грезы слились воедино. Постепенно воображаемый мир стал казаться ей единственно настоящим. И счастье это было совершенно безгреховным, потому что на самом деле ничего не происходило. Состояние девушки можно было назвать райским, лишенным раскаяния, страха или угрызений совести. Чем безудержнее предавалась она мечтам, тем труднее становилось сохранять их в тайне. И однажды Филиппа не выдержала — заговорила о своей любви на исповеди. Разумеется, очень осторожно, без каких-либо намеков на то, что предметом обожания является сам исповедник — во всяком случае, так ей казалось.
Подобные исповеди следовали одна за другой. Священник слушал внимательно, время от времени задавал вопросы, из которых явствовало, что ему и в голову не приходит, как дела обстоят на самом деле. Осмелев от своей невинной хитрости, Филиппа рассказывала ему все больше и больше, вплоть до самых интимных деталей. Теперь она была по-настоящему счастлива, эти признания доставляли ей истинное наслаждение, повторявшееся вновь и вновь. Но однажды настал день, когда она оговорилась и вместо «он» сказала «вы», а когда попыталась исправиться, то совсем запуталась и смутилась. В ответ на расспросы залилась слезами — и повинилась.
Ну наконец-то, сказал себе Грандье. Дело сделано!
Дальше все было просто. Несколько взвешенных слов, точно рассчитанных жестов, нежные увещевания, понемножку от Христа и от Петрарки, потом перейти от Петрарки к любви земной, а от земной — к животной. Спускаться вниз легче, чем подниматься вверх, а казуистикой святой отец владел виртуозно. В любом случае отпущение грехов девице было полностью гарантировано.
И все же прошло несколько месяцев, прежде чем желаемое совершилось. По правде говоря, Грандье был несколько разочарован. Чем, спрашивается, ему была плоха вдова?
Для Филиппы же экстаз и духовный подъем сменились пугающей реальностью плотской страсти, которая перемежалась нравственными терзаниями, молитвами, клятвами, которые она была не в силах выполнить, и, наконец, отчаянием. Уступив домогательствам исповедника, она не получила того, о чем мечтала. Выяснилось, что ее архангел — безумец, охваченный животной страстью. Поначалу Филиппа воображала себя овечкой, идущей на заклание, добровольной мученицей любви, но вскоре выяснилось, что в ее избраннике очень мало от созданного воображением идеала. Она влюбилась в красноречивого проповедника, остроумного и учтивого гуманиста. Но влюбленность и любовь, увы, не одно и то же. Влюбленность — абстракция, любовь — реальность. Полюбив, Филиппа отдалась этому чувству всей душой и всем телом. Теперь для нее не существовало ничего, кроме любви. Совсем ничего.
Так-таки и ничего? Ухмыльнувшись, коварная судьба поймала девушку в заранее расставленный капкан. Филиппа чувствовала себя беспомощной, распятая на кресте физиологии и общественной морали — падшая, обесчещенная, забеременевшая вне брака. Произошло то, о чем она никогда не думала, и поделать с этим ничего было нельзя. Полная луна недолго озаряла небосвод своим волшебным сиянием, потом свет начал меркнуть и в конце концов угас, подобно последнему лучу надежды. Оставалось только одно — умереть в объятиях любимого, а если это невозможно, то хотя бы на время отрешиться от ужаса происходящего.
Встревоженный таким неистовством, таким самозабвением, кюре попытался перевести страсть влюбленной девицы в менее трагическую тональность. Ласки и объятия он сопровождал обильными цитатами из игривых классических произведений. Quantum, quable latus, quam juvenile femur![22] В перерывах между любовными утехами Урбен рассказывал Филиппе непристойные истории из «Галантных дам» Брантома, а по временам нашептывал на ушко сведения, почерпнутые из трактата Санчеса о супружеских отношениях. Однако лицо Филиппы оставалось неподвижным. Казалось, оно высечено из мрамора на гробнице — закрытое, скорбное, лишенное признаков жизни. Когда же девушка открывала глаза, возникало ощущение, что она смотрит на него из другого мира, где нет ничего, кроме страданий и отчаяния. Этот взор вселял в Урбена беспокойство, однако в ответ на расспросы Филиппа лишь сжимала в пальцах его густые черные кудри и притягивала любовника в устам, к шее, к груди.
Но однажды, в самый разгар забавной истории о короле Франциске, поившем молоденьких девушек из особых кубков (изнутри на кубках были изображены совокупляющиеся пары, и с каждым глотком картинка открывалась все больше), Филиппа вдруг прервала рассказ, не дослушав. Она объявила, что ожидает ребенка, и тут же разразилась истерическими рыданиями.
Убрав руку с ее груди, Грандье немедленно изменил тон с фривольного на церковный и, разом превратившись из любовника в строгого пастыря, напомнил грешнице, что всякий должен нести свой крест с христианским смирением. Выяснилось, что его преподобию пора идти с визитом к бедной мадам де Бру, страдающей раком матки. Несчастная нуждается в духовном утешении.
После этого уроки латыни закончились, потому что у господина кюре больше не было на них времени. Отныне Филиппа видела его лишь в исповедальне. Когда же она пыталась обратиться к нему не как к духовнику, а как к любимому мужчине (бедняжка верила, что и он все еще ее любит), ничего не получалось: перед Филиппой был только строгий пастырь, совершавший таинство причастия, дававший отпущение грехов и налагавший епитимью. Как красноречиво убеждал он ее покаяться, довериться Божьему милосердию! Если же Филиппа заводила речь о былой любви, духовник впадал в священный гнев, отказываясь выслушивать подобные мерзости. Девушка в отчаянии спрашивала, что ей теперь делать, и Грандье отвечал, что надо вести себя по-христиански — то есть не просто смиренно снести унизительное испытание, уготованное ей Господом, но и радоваться этой муке, стремиться к ней всей душой. О своем собственном вкладе в случившееся, Урбен говорить не желал. В конце концов, всякий грешник сам несет ответственность за свои проступки. Нельзя оправдывать собственную греховность, сваливая вину на другого. В исповедальню приходят не для того, чтобы взывать к совести духовника, а за тем, чтобы просить Господа об отпущении грехов. Выслушав подобные наставления, Филиппа уходила из церкви потрясенная, заливающаяся слезами.