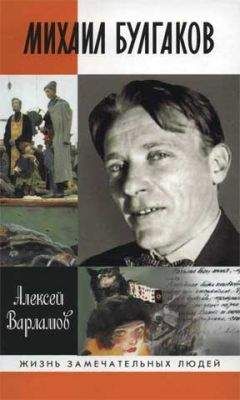Тут надо отметить еще одно обстоятельство. Варвара Михайловна пользовалась среди Булгаковых-Покровских авторитетом прекрасной воспитательницы детей, неслучайно к ней отправил двух своих сыновей младший брат ее мужа Петр Иванович Булгаков, служивший священником в русской церкви в Токио. После смерти Афанасия Ивановича она поступила на службу в так называемое Фребелевское общество. Эта была довольно распространенная в ту пору в России система дошкольного воспитания, проповедовавшая идеи немецкого педагога Фридриха Фребеля, который рассматривал дошкольное воспитание как единственное средство уничтожения общественного зла и улучшения нравов. То есть если ребенок правильно воспитан в раннем детстве, он будет убережен в дальнейшем от зла в своей душе. Все дети Булгаковых, и Михаил в том числе, были едва ли не лучшим примером такого воспитания, но на деле прекрасная теория столкнулась с жесткой практикой: правильное детство не уберегло старшего сына Булгаковых от соблазнов и искушений молодости. И, судя по всему, не уберегло не только от мировоззренческих, но и чисто личностных, психологических конфликтов с матерью.
Варвара Михайловна и Михаил Афанасьевич оба были сильными личностями, лидерами; при жизни занятого работой отца и тем более после его смерти мать была фактической главой булгаковской семьи («волевая была женщина» [87; 30], – говорила о ней Л. Паршину первая жена Булгакова Т. Н. Лаппа и в другом месте добавляла: «А насчет Варвары Михайловны – не было случая, чтоб у нее слезинка упала» [87; 73], а К. Н. Сынгаевская-Истомина называла ее энергичной и строгой), и с годами Михаил этой опекой мог все больше тяготиться. Очень вероятно, что его «бунт» против Бога и Церкви первоначально был вызван не столько вероотступничеством как таковым, сколько желанием перечить матери, отстаивая свою независимость. И тем более эта конфликтность обострилась, когда взрослый сын увидел, что у матери появился друг, характер отношений с которым не вызывал сомнений. Начиная с какого-то момента Михаил стал ослушником, и всё, что он делал и говорил, было направлено против Варвары Михайловны. Эти отношения переживали разные степени остроты. «Миша стал терпимее к маме – дай Бог. Но принять его эгоизма я не могу, может быть, не смею, не чувствую за собой прав <…> Во всяком случае я начну действовать, но опять-таки я не могу, как Миша, в ожидании заняться только самим собой» [48; 94], – записывала в дневнике в 1912 году Надежда Афанасьевна, которую Михаил пытался перетащить на свою сторону.
Свидетельств о том, что думала сама Варвара Михайловна о старшем сыне, не сохранилось, но нетрудно представить, какие чувства испытывала она во время causiers со своим первенцем и иронического ниспровержения им авторитетов на глазах у других детей. И все же если дочь карачевского протоиерея от сыновьего нигилизма в базаровском духе сильно коробило, но не заставляло ни в чем усомниться, а лишь быть еще более твердой и категоричной («Вечер прошел тихо, один из обычных вечеров в зеленой столовой, когда шумит самовар, безапелляционно утверждает что-либо мама» [48; 99], – иронически описывала один из булгаковских журфиксов Илария Михайловна, и тут, конечно, самое главное слово «безапелляционно»), то на молодое поколение слова красноречивого бунтаря («Мишины красивые оригинальные проповеди» [48; 96], – замечала в дневнике Надежда Афанасьевна) производили куда большее впечатление.
«Влияние Миши на моих братьев сказалось прежде всего в том, что мои братья, которые учились тогда в духовной семинарии, стали готовиться к поступлению в институт», – вспоминала сестра Александра Гдешинского Екатерина, а жена его Лариса Николаевна приводила слова мужа, который говорил, «что по светской дороге они (братья Гдешинские. – А. В.) пошли под влиянием Миши – оказали свое действие вечера в „открытом доме Булгаковых“ с музыкой. Он их ввел, так сказать, в светскую жизнь – заставил полюбить все это. И, по-моему, уговаривал их уйти из семинарии – хотя это было трудно, везде в других заведениях уже надо было платить за обучение» [142; 38].
Таким образом, Булгаков не только сам стал блудным сыном, ушедшим от призвания своего отца, деда и прадеда, но и других к тому же с успехом подталкивал. «Своих друзей Платона и Сашу Гдешинских постоянными насмешками над их семинарским званием он вынудил бросить семинарию и поступить в университет», – с осуждением пишет уже упоминавшийся Н. Никонов. И при желании против автора «Мастера и Маргариты» можно завести целое дело о совращении ближних в атеизм, мистику и оккультизм, продолженное впоследствии в его знаменитом романе, когда аудитория соблазненных читателей возросла до нескольких миллионов. С такими утверждениями и такой логикой встречаться приходится сегодня сколько угодно.
«Писатель всегда ответственен за свое слово. В этом смысле рукописи действительно не горят. Вину же Булгакова отяжеляет и то, что он знал и Священную историю, и Писание, так как родился и вырос в семье профессора Киевской Духовной Академии» [107], – выносит свой приговор Ирина Репьева в статье «Неправильный Булгаков».
Подобный ход мысли следует признать несколько плоским и упрощенным, и дальнейший жизненный путь Михаила Булгакова показал, что по меньшей мере активным богоборцем он не стал, а напротив, столкнувшись с безверием уже не отдельных интеллектуалов, а сотен тысяч, если не миллионов людей, пришел от массового атеизма в ужас. И потом, дело ведь не только в одном конкретно взятом молодом человеке, оказавшемся в очень сложной психологической ситуации, но и в общем кризисе, охватившем Россию на рубеже веков и очень больно ударившем по всем, не в последнюю очередь по творческой интеллигенции, в среде которой мало кто сумел от этих веяний уклониться. Но все же если говорить о покинувших семинарию Гдешинских и ставить их решение в упрек Булгакову, то стоит отметить, что в этой семье, помимо братьев Александра и Платона, были сестры Софья и Катерина, которые безо всякого тлетворного булгаковского влияния не просто предпочли духовному образованию светское, а сделались такими атеистками, что их мать говорила: «Я теперь старая, помирать скоро буду, не знаю, куда деваться. У Сони я жить не могу, потому что меня там похоронят как собаку, без отпевания» [142; 39]. Сама же Соня, работавшая сельской учительницей, отозвалась о своей атеистической деятельности: «Если я даже не совсем могла убедить – мне важно было заронить искру сомнения» [142; 38].
Соня Гдешинская «ученицей» Михаила Булгакова не была и до всего доходила своим умом (а была бы под влиянием Булгакова, до такой дури не дошла бы!). Александр Гдешинский хоть и не стал священником, но жизнь свою прожил достойно, был скрипачом, педагогом, человеком верующим (точно так же, как был верующим человеком еще один настоящий друг Булгакова – Павел Сергеевич Попов, и это дружеское окружение писателя говорит само за себя), Михаила Афанасьевича очень любил, состоял с ним в переписке и в одном из последних писем, отправленном другу юности за несколько месяцев до его смерти, поэтически вспоминал их общую киевскую жизнь: «Мы уже давно ждем шагов, прыгающих через ступеньки, – звонок и появляется, в особенности помню зимой, твоя фигура в шубе с поднятым воротником и слышится твой баритон: „Здравствуйте, друзья мои!“ …Летом помню в раскрытые окна неслись звуки виолончели, слышалось слабое постукивание шагов о тротуары, луна заливала булыжные мостовые, а напротив – из архиерейского сада неслось щелканье соловья. Неужели ничего не останется кроме памяти? Да и она исчезает…» [133; 252]
Рукописи не сгорели, память не исчезла, но эти строки, которые читала умирающему, ослепшему писателю его последняя жена, лучше прочего передают атмосферу любви и дружбы, сопровождавшую молодость Булгакова. И уже потом, когда Михаила Афанасьевича не стало, Гдешинский писал о своем товарище: «Беспощадный враг пошлости, лицемерия, косности и мещанства, он хотел видеть всех лучшими, чем они есть на самом деле, –- эту мысль выразил он мне однажды. Он не только боролся с пошлостью, лицемерием, жадностью и другими человеческими пороками, он хотел сделать людей лучше» [48; 83].
Булгаков неожиданно предстает здесь как моралист, учитель и проповедник, каковым едва ли был на самом деле, но каким неслучайно запомнился своему другу. Духовный путь героя этой книги нет нужды идеализировать, упрощать и обходить многочисленные острые углы в его биографии, но точно так же его не стоит демонизировать и опошлять. Отшатнувшись от Церкви, Булгаков не направился в сторону примитивного нигилизма и атеизма. Духовная драма старшего сына киевского богослова состояла в том, что, будучи человеком чрезвычайно впечатлительным и жадным до жизни, то есть наделенным теми качествами, без которых писателя не бывает («Добросовестно себя тренирует. Натаскивает себя на впечатления. Мастак» [32; 104], – позднее скажет о Булгакове один из приятелей Паустовского), он хотел узнать и попробовать все, и время, в которое он жил, к этой всеядности располагало как никакое другое.