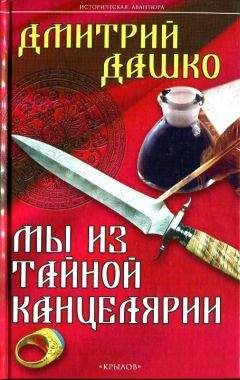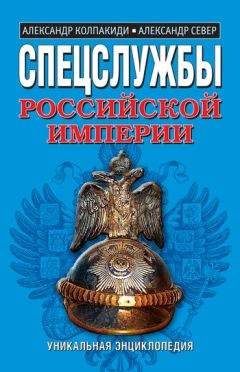Пушкин помнил очень хорошо: в свое время нашелся критик, который назвал этого, с позволения сказать, историка «несчастным мучеником терпения и бесталанности». А о книге его «История Донского войска» писал: «Прочтите ее сто раз и ничего не узнаете, ничего не удержите в памяти».
Просто удивительно, как часто он, Пушкин, встречается на едином пути с этим критиком! И критик все тот же – Виссарион Белинский.
Поэт еще раз перечитал свои записки и, готовя статью для «Современника» в защиту Пугачева, решительно написал:
«Политические и нравоучительные размышления, коими г. Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы…»
И поставил знак сноски. В сноску пойдет, для примера, одно из таких размышлений автора «Истории Донского войска»:
«Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным; ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек и какою адскою злобою может быть преисполнено его сердце. Если бы деяния Пугачева подвержены были малейшему сомнению, я с радостию вырвал бы страницу сию из труда моего».
Доколе же будут подменять историю глупыми и пошлыми сказками вроде тех, что сочиняет Броневский? Может быть, эти сказки утешительны для потомков тех бар, которых вешал Пугачев, но нимало не полезны для познания исторической правды. А правда эта и в самом деле жестока.
Вот и герой «Капитанской дочки», бывший недоросль Петруша Гринев, умудренный к старости жизнью, говорит между прочим:
«Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений…»
Но Пушкин умеет видеть историческую правду. Восстание Пугачева поколебало государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. Как живой стоит перед глазами беглый донской казак с лукавой, умной прищуркой. Поэт будто наяву слышит его голос: «Улица моя тесна; воли мне мало…»
…На даче шла шумная, бестолковая жизнь. За стеной громко перекликалась прислуга, в столовой гремели посудой. Кто-то бегал по всему дому в поисках какой-то пропажи. Лишь в комнате, отведенной под летний кабинет хозяина, царил образцовый порядок. Ни намека на то, что именуют поэтическим хаосом. Аккуратно прибраны рукописи. Очинены перья. Ничего лишнего на столе, только стопка приготовленной бумаги.
Пушкин трудился над статьей для «Современника». В свое время император Николай I пропустил пушкинскую «Историю Пугачева» в печать, – должно быть, в назидание господам дворянам. Пусть-де вспомнят о недавнем прошлом. Авось уберегутся от вольномыслия. Но первая же попытка поэта приоткрыть подлинную страницу народной жизни тотчас стала боевым сигналом для встревоженной челяди, вскормленной у подножия трона. Против Пушкина двинуты силы ложной науки; стрекочет о «чудовищном феномене» Булгарин; затаились, выжидая удобной минуты, высокопоставленные преемники усмирителей Пугачева.
А Александр Сергеевич знай пишет статью о Пугачеве для своего журнала. Опрокинуты, сметены с фактами в руках все замечания невежественной критики. В текст будущей статьи войдут новые документы. Читатель с любопытством прочтет подлинный указ Екатерины II о сожжении в станице Зимовейской двора Пугачева, «которого имя останется мерзостно навеки». Жилище Пугачева, гласил указ, надлежало сжечь, пепел развеять через палача, а самое место огородить надолбами и окопать рвом, «оставя на вечные времена без поселения как оскверненное жительством на нем все казни лютые и истязания делами своими превосшедшего злодея…»
Вот как боялись не только имени, но и тени Пугачева!
Пушкин, пользуясь книгой Броневского, соберет воедино все ходячие суждения официальной историографии. В таком букете они поразят даже неискушенного читателя своей наивной и злобной напыщенностью. Пугачеву, оказывается, «недоставало самой лучшей и нужнейшей прикрасы – добродетели»; двенадцатилетний Пугачев «уже гордился своим одиночеством, своею свободою»; по пятнадцатому году «он уже не терпел никакой власти»; на двадцатом году ему (о злодей!) «стало тесно и душно на родной земле; честолюбие мучило его; вследствие того он сел однажды на коня и пустился искать приключений в чистое поле…»
Немало трудился Александр Сергеевич, чтобы преподнести читателю эти убогие цветы лженаучного красноречия.
Отложил перо. Перечитал готовое, снова обратился к выпискам.
– Кушанье на столе, Александр Сергеевич! – доложил, войдя в кабинет, слуга.
За обедом Пушкин был рассеян. Эх, поместить бы задуманную статью в выходящий номер «Современника»! Но такой возможности нет. Придется ждать, а каково ждать! Тут не только высохнут чернила – душа изнеможет. Кажется, совсем забыл, что, готовя статью о Пугачеве, может быть, закрывает ворота «Капитанской дочке».
После обеда поэт сидел в саду с женой. Наталья Николаевна все еще не решалась выезжать и, по-видимому, скучала. Она оживилась только тогда, когда из города вернулась Екатерина.
– Вообрази, Таша! В городе только и говорят о петергофском празднике…
– И потому, – откликнулся Пушкин, – дамы держат в осаде мастерскую мадам Сихлер?
– К вашему сведению, Александр Сергеевич, – отвечала ему Екатерина, – ни одна модная лавка уже не берет заказов к этому дню. Посчитайте, сколько коротких дней осталось до первого июля? И ты, Таша, конечно, опоздала. Впрочем, какая модистка тебе откажет: шить на тебя – для них высшая честь и счастливая возможность войти в моду у самых взыскательных заказчиц. Для тебя, пожалуй, сделают исключение, если ты решишь ехать в Петергоф.
– Наташа не выезжает по уважительным причинам, – перебил Пушкин. – Отсутствие на петергофском празднике ей не поставят ни в вину, ни в обиду.
– Ты думаешь? – Наталья Николаевна взглянула на мужа. – Мне кажется, что в этот день я могла бы сделать мой первый выезд.
– Помилуй, жёнка! Ты забываешь, что мы в трауре. Далеко нет еще и полугода по смерти матушки. А ты и по недавним родам имеешь право на льготу. Да и у меня нет охоты напяливать шутовской кафтан. Все складывается к тому, чтобы пренебречь праздником. Предоставь хоть временно торжествовать в твое отсутствие придворным сорокам.
– Какой чудовищный деспотизм! – возмутилась Екатерина.
– Но траур наш, – спокойно отвечал Александр Сергеевич, – приличен и вам, если не по доброй воле, то хотя бы по нашему свойству. Право, Наташа, – снова обратился поэт к жене, – нет ни нужды, ни желания тащиться в Петергоф. Цари обойдутся без нас, а мадам Сихлер терпеливо подождет твоих заказов.
– Ты, вероятно, прав, – отвечала Наталья Николаевна, – и мне остается поступить по твоему совету.
– О покорство! – Пушкин вспыхнул. – Да неужто ты сама не понимаешь всего неприличия поездки в Петергоф при наших обстоятельствах?
– Нам не о чем спорить, мой друг. Я с тобой согласна.
– И тем более не о чем нам препираться, жёнка, – уже ласково подтвердил Пушкин, – что ты вволю поработаешь ножками на осенних балах. Наберись для этого сил.
Наталья Николаевна притянула к себе вертевшуюся около родителей Машеньку:
– Дай я перевяжу тебе бантик, детка!
Екатерина с удивлением глянула на младшую сестру. Наташа была совершенно спокойна, словно не ее лишали участия в самом важном летнем торжестве. Нетерпеливая Екатерина готова была вновь напасть на зятя.
– Я тоже хочу на бал! – неожиданно вмешалась Машенька.
– А что ты будешь там делать? – серьезно спросил отец.
– Танцевать! – бойко продолжала маленькая женщина.
Пушкин едва мог скрыть улыбку.
– Танцевать тоже надо уметь!
– Умею! Умею!
– У кого же ты выучилась? – удивился Александр Сергеевич.
– У собачек, – с охотой призналась дочь.
Для того чтобы ее не заподозрили в хвастовстве, она привстала на носки и стала кружиться, как танцуют ученые собаки бродячих фокусников.
– Ай, Машка, вот уморила! – Пушкин долго не мог отдышаться от смеха. – Не вывезти ли ее и в самом деле на петергофский бал? Право, она будет не последняя среди дрессированных придворных танцорок!
Сконфуженная, но довольная успехом Машенька не слышала, что говорил отец. Она убежала вслед за удалившейся Екатериной. Наталья Николаевна пошла на веранду, где вдруг расплакалась маленькая Наташа.
Когда Наталья Николаевна вернулась к мужу, он взглянул на нее виновато:
– Ты не гневаешься на меня, мой ангел?
– Помилуй! За что?
– Мне так не хочется лишать тебя удовольствия. Но чем меньше заботишься о своем здоровье ты, тем больше пристало думать об этом мне.