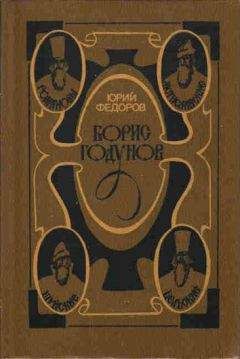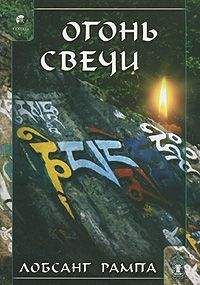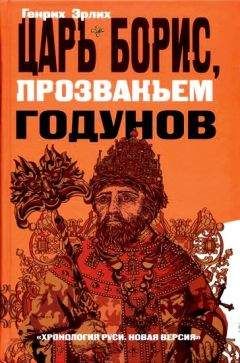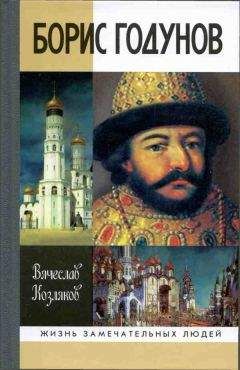Говоривший захлопал рыжими ресницами. Погладил битый бок.
— Истинно, — сказал, — во́роги.
— У нас, — встрял в разговор Степан Данилыч, — мастеровой люд, как один, шумят: надо кричать Бориса.
К нему повернули головы.
— Вот видишь, — зашустрил глазами Дубок, — и тут на Бориса глядят.
Четверть вновь пошла по кругу. Забулькало в стаканчиках.
Степан Данилыч подсыпал в миски грибочков, выставил бараний бок. И все подваливал, подваливал капустку. Любил Арсения и товарищей его угощал хорошо, от души.
Но гости ели вяло. Так, щипнет чуть тот или другой под водочку — и все. Не было веселья. Лица нахмурены, губы сжаты. Собрались-то не для выпивки. Великие творились на Москве дела — было о чем подумать.
— Борис-то Борис, — сказал вдруг старый стрелец, сидевший рядом с Арсением, — да вот царевича убиенного, Дмитрия, помните ли?
Лицо у старого стрельца серое, дубленое, вяленое. Арсений крепко хлопнул стаканчиком по столу:
— А черт его знает, убиенный ли он или сам на нож приткнулся! Кто там был? Ты, дядя?
Стрелец поворотил спокойно лицо к Арсению, посмотрел блеклыми глазами:
— Нет, не был. Люди сказывали, что убиенный, а ежели это так, то от Бориса — убивца младенца царственного — ждать нам, ребята, добра нечего! — Сказал и словно в темя каждому вколотил гвоздь.
Компания разом взорвалась голосами:
— Дмитрий-царевич — дело темное!
— То Нагих сказка. Тоже наверх рвались!
— Э-э-э! Постой, постой! — кричал кто-то. — Здесь, ребята, торопиться нельзя!
— А хрен ли в нем, в царевиче, — поднял вдруг голос стрелец с серьгой в ухе. — Я был в Угличе. Видел его забавы.
За столом насторожились.
— Мальчонка малый, Дмитрий-то, а волчок. Игрища-то, знаете, какие у него были?
Стрельцы, слушая, вытянули шеи.
— То-то! Налепят слуги царевичу с десяток снежных баб, а он каждой имя дает. Это-де Борис, то Шуйский Василий, а то Щелкаловы — Андрей ли, Василий ли. Похаживает важно вдоль ряда и головы бабам сечет. И так-то зло, кривится весь, и сабелька у него свистит. Я как посмотрел, и муторно мне стало. Подумал: придет такой на царство — и полетят головы. Кланялся царевичу — плечико он мне дал облобызать, — а у самого волосы на загривке дыбом стояли, — стрелец перекрестился, — вот ей-ей, испужался до смерти.
За столом помолчали. Потом неуверенный голос произнес:
— Да что там, дитя… Баловал…
Но это «баловал» повисло в тишине. Уж больно было страшно баловство.
Арсений потер лоб, провел ладонью по волосам. Сказал тихо:
— Царевича убить — не барана свалить. Да и подумайте: какой резон был на такое дело решаться? — Арсений глаза сощурил, сдавил стаканчик в кулаке так, что тот хрустнул. — Дмитрий, — сказал, — седьмой жены сын и на трон — о том ведомо — права не имел. — Повернулся всем телом к старому стрельцу: — И ты о том, дядя, знаешь. — Оглядел всех за столом. — Так зачем было убивать царевича? Кровью пятнать себя? Нет, здесь не то…
За столом загалдели:
— Нагих, Нагих дело! Они кашу варили.
— Обнос Бориса Федоровича…
— Охул!
Тут в разговор встрял стрелец с серьгой в ухе:
— Вот что, ребята, я вам скажу. Стояли мы как-то на карауле у храма Василия Блаженного. Ночь. Мороз страшенный. И вдруг видим — шасть к нам из Кремля человек, и в руках у него белое, клубком. Подошли и ахнули: правитель с младенцем. Борис на колени в храме упал и уж так молил, так молил господа о даровании жизни младенцу, что нас слеза — вот те крест! — прошибла. В то время у Бориса Федоровича первенец его болел, вот он и ходил к святым иконам жизнь для него вымолить. Многажды тогда я видел его — и днем, и в ночь. Он и святой водой младенца своего поил. — Стрелец крутнул головой и добавил: — Видел я, как он дитя к груди прижимал. Лик его зрел в ту минуту — вот так, как твой, — стрелец показал на сидящего напротив Дубка, — и вот что скажу: тот, кто так сердцем скорбел за свое дитя, и чужое не обидит. Нет, не обидит… Слепцом надо быть вовсе, чтобы такое не увидеть. Слепцом.
Помолчали.
— А еще и о другом подумайте, — сказал Арсений, — почему Нагие царских людей в Угличе побили, когда зарезался царевич? Дьяка Битяговского и других с ним? Дьяка-то помните? Мужик был справный. На вора не похож. На убийство не пошел бы. Не верю. Так его Нагие тюк по башке. А зачем? Аль не ясно? Всех побить и концы в воду — такого разве на Москве не было? Старая это наметка.
Стрельцы жарко дышали. С окон из скобленого пузыря потекло слезами морозное узорочье.
— А пожары на Москве о ту пору кто устроил? — выскочил Игнашка Дубок. — Левка-банщик с товарищами. Мы их имали. Я сам слышал, как винились зажигальщики, что научены Афанасием Нагим. Смуту Нагие хотели поднять, чтобы бедой всенародной покрыть грехи.
Арсений переждал, пока выкричится Игнашка, и сказал, как припечатал:
— Дознание в Угличе по распоряжению Думы вел боярин Василий Шуйский. А он ведомо, какой друг Борису Федоровичу.
— Да уж, дружки… Сережку боярин Василий для Бориса из ушка вытянет…
Стрельцы засмеялись.
— Вот то-то я и говорю, — продолжил Арсений, когда стрельцы успокоились. — Ежели бы Борисов коготок в Угличе был — боярин Шуйский правителя с головой втянул бы и утопил беспременно.
— Это верно, — согласился старый стрелец с серым лицом и потянулся за четвертью. — Утопил бы, — повторил, — с дорогой душой.
— А Василий показал, что царевич сам на нож налетел в падучей, — сказал Арсений.
Ему подвинули стакан.
— Ладно, — примирительно начал стрелец с серьгой в ухе, — говори, что надумал. Лаяться нам ни к чему.
— Патриарх, — продолжил Арсений, — народ к Новодевичьему зовет просить Бориса на царство. Думаю, это нам по сердцу должно быть. Служивый люд Борис всегда отмечал. Не было случая, чтобы стрельцам в его правление с жалованьем задержка выходила или в чем другом притеснение.
— А что, пойдем, — заторопился Игнашка, по молодости не давая себе труда задуматься, — пойдем, небось нас не остановят.
Стрельцы постарше склонились над стаканами. Хоть и бодрила водка, а ведомо было — не о сладких бубликах пошла речь. Задумаешься.
— А как романовские людишки, Шуйских молодцы посмотрят? — спросил один. — На Москве сейчас людно. Бояре натащили народу.
— Вот их-то и унять надо, ежели кто мешать будет народу к Новодевичьему идти, — ответил Арсений.
— Придержать малость, — хохотнул Игнашка, вновь по молодости выскакивая наперед.
— А народ точно пойдет, — сказал Степан Данилыч и непочатую четверть выставил на стол. — Давай, ребята, — заторопил, — разливай.
…Стрельцы сомневались не напрасно. На Москве последние дни случалось немало странного.
Мороз, к счастью, отпустил, и вновь на торжищах затоптался многочисленный люд. А знамо, где тесно от народа, там и разговоры. В Москве же об одном говорили: кто сядет на царство? Об этом и на торжищах шла речь. Шатался народ. Всяк кричал свое. Но приметили: как шумнет какой мужик, Борису-де Федоровичу быть на царстве, того мужика бьют неведомые люди. И бьют без жалости. Так-то в толпе прищучат и молча пойдут работать кулаками. Да еще хорошо, ежели кулаками, а то и нож шел в ход. Распадется толпа, а на снегу лежит человек, хватает ртом воздух. Под ним красная лужа. Готов, отпрыгал свое.
Письма подметные обнаруживались в лавках и в рядах. Письма пугающие.
А то и так было на Пожаре. Собрался народ, закричали: «Хотим Бориса Федоровича!» Из проулка вылетели сани и погнали на толпу. В санях люди в сушеных овечьих личинах, и кто такие — не разобрать. Многих подавили, побили чеканами. За санями бросились мужики, но лошади унесли неведомых забавников.
Однако стрельцов на Москве никто не трогал — видать, боялись злить. Однажды в сумерках стрельцы остановили саночки с молодцами у одной из застав, а те им и скажи:
— Мы вас не трогаем, стрельцы, и вы нас не троньте. А то как бы худа не было.
Стрельцы зашумели. Кто-то поднял бердыш. Но молодцы отъехали. Издали крикнули:
— Знайте, за кого голос поднимать, а то как бы не пожалеть!
И другое крикнули:
— Петух огненный по слободкам полыхнет, погреетесь! — и засвистели по-разбойничьи.
Стрельцы заробели. А оно заробеешь. По такой лютой зиме, с ветрами, с морозом, пустить петуха — Москве придется жарко.
И все больше и больше стаскивали на двор к Земскому приказу то там, то тут найденные мертвые тела.
Дьяк глянет, скажет:
— Опоек.
А какой опоек? У опойка лицо должно быть синим, а тут синевы нет и в помине. Видно, пришибли человека. Народ разбирался, что к чему.
Эх, время, время лихое…
В переулочках, меж изб, зарывшихся в снег, гулял ветерок, мел белую порошу. «Надую, надую, — кричал, — веселье!» Только и скажешь на то: бе-е-да, бе-е-да… А жить-то хотелось каждому.