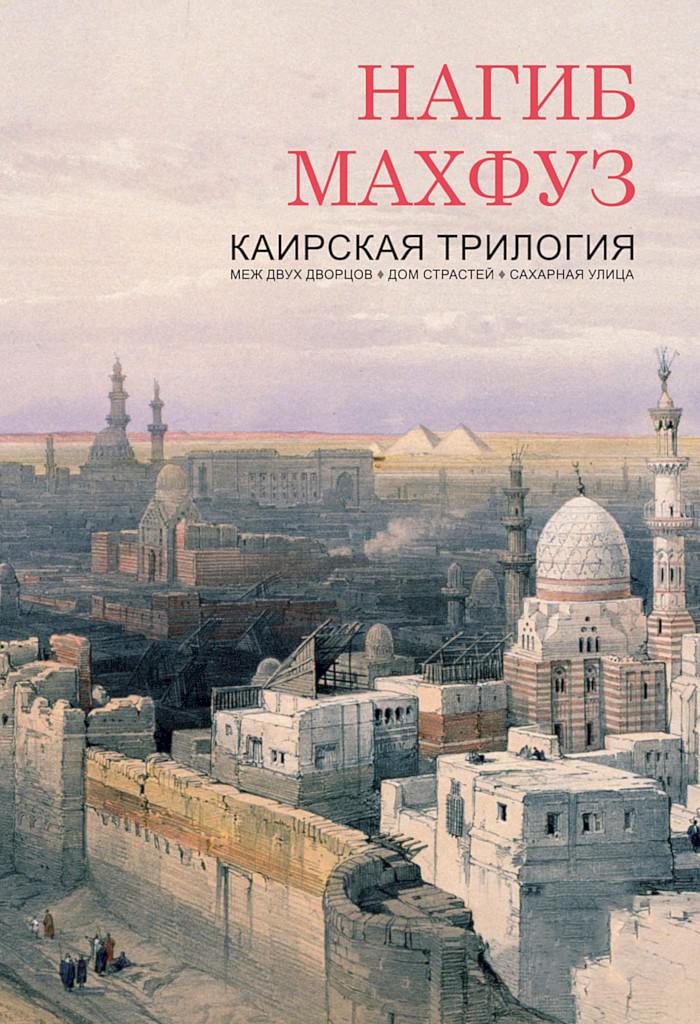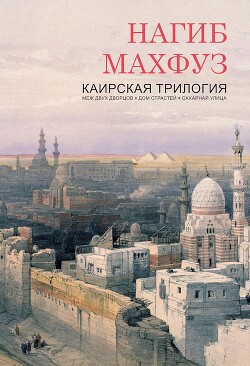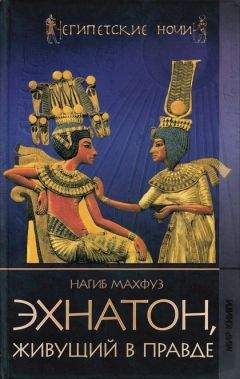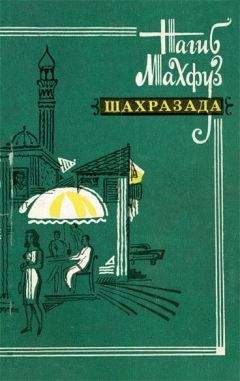она так и оставалась в этой полудрёме, долгой ли, короткой. В ней тлели ощущения страха и укоризны, а она продолжала наслаждаться упоением мечты под сенью покоя, и вспоминала — ей всегда было приятно вспоминать — как однажды она отдёрнула висящую на окне занавеску, чтобы смахнуть пыль, и скользнула взглядом по дороге из открытого наполовину окна. Он бросил на её лицо взгляд изумления, соединённого с восхищением, а она отпрянула чуть ли не в испуге. Однако он не уходил до тех пор, пока не произвёл на неё впечатления — вид его золотой звездочки и красной ленты пленил её и похитил воображение. Его образ долго ещё стоял перед её глазами, и в тот же час на следующий день она встала перед щелью в окне, так чтобы он не заметил её, и с явным восторгом ощутила, как его глаза внимательно и страстно смотрят на её закрытое окно, а потом как он старается рассмотреть её силуэт за щёлкой, и все черты его лица излучают радостный свет, и её пылкое сердце, — которое потягивалось, впервые проснувшись ото сна, — ждало этого мига с нетерпением, испытывая счастье момента, оставлявшего ей чувство, что всё это похоже на сон. Хотя и прошёл месяц, он вернулся в тот день, когда она снова смахивала пыль. Она подошла к занавеске и отряхнула её за умышленно полуоткрытым окном и на этот раз — чтобы увидеть его — как и день за днём, и месяц за месяцем, пока жажда ещё большей любви не одержала верх над притаившимся страхом, и она пошла на безумный шаг — открыла оконные ставни и встала позади с отчаянно бьющимся от любви и страха сердцем, словно заявляя о своих чувствах открыто. Она была подобна тому, кто выбрасывается сверху, с огромной высоты, в страхе перед пылающим огнём, объявшим его.* * *
Чувство страха и угрызения совести улеглось, а она продолжала наслаждаться в упоении своей мечтой под сенью покоя, а затем очнулась от этого сна и решила избегать страха, который так расстраивал её безмятежность, принявшись твердить себе, дабы ещё больше увериться:
— Никакого землетрясения нет, всё мирно и спокойно, меня никто не видел и не увидит, и я не совершила греха! — и поднялась. Чтобы внушить себе беззаботность, она стала напевать нежным голоском, выходя из комнаты. — О тот, у кого красная лента! Пленил ты меня, сжалься над моим унижением!
И она много раз повторяла это, пока не из столовой до неё не долетел голос Хадиджы, её сестры, которая с издёвкой кричала:
— Эй, госпожа Мунира Махдия, будь добра, подойди, твоя служанка накрыла для тебя стол.
Голос сестры был словно удар, который полностью привёл её в себя, и из мира грёз она попала в реальный мир, несколько напуганная по какой-то скрытой причине. Однако всё прошло мирно и спокойно, как она и говорила себе, и лишь нотки возражения в голосе сестры из-за этого пения напугали её — вероятно от того, что Хадиджа играла роль критика, — однако она прогнала от себя внезапное волнение и ответила ей импровизированным смехом, а потом умчалась в столовую и обнаружила, что стол уже и правда накрыт, а мама идёт с подносом. Хадиджа сердито сказала ей:
— Ты совсем не торопишься, пока я сама всё не приготовлю… Хватит уже петь…
И хотя она с ней говорила любезно, остерегаясь быть острой на язык, но упорно продолжала язвить всякий раз, как представлялся удобный случай, иногда дававший ей возможность подразнить сестру, и тогда она говорила с деланной серьёзностью:
— Не согласишься ли на то, чтобы мы разделили работу? Ты должна будешь делать всё по дому, а я — петь…
Хадиджа посмотрела на маму и сказала в насмешку, имея в виду сестру:
— Может, она намерена стать певицей?!
Аиша не рассердилась, напротив, также с деланным интересом сказала:
— А что с того?!..У меня голос как у кулика.
И хоть предыдущие слова Аиши не вызвали у неё гнева, ибо это было нечто вроде шутки, однако последнее, сказанной ей, разозлило её, ибо то была очевидная правда, а также потому, что она завидовала красоте её голоса, как и другим её достоинствам, и в отместку она сказала:
— Послушай-ка, знатная дама…, это дом благородного человека, и он не порицает своих дочерей за то, что голос у них как у ишака; он порицает их за то, что они словно картинка, от которой ни пользы, ни блага.
— Если бы у тебя был такой же красивый голос, как у меня, ты бы этого не говорила!
— Естественно!.. Я бы тогда распевала и вторила тебе: «О тот, у кого красная лента, пленил ты меня, сжалься над моим унижением», госпожа, мы оставим тебе, — она указала на мать, — домашний труд: подметать, мыть и готовить.
А мать, которая уже привыкла к этой ссоре, заняла своё место и сказала, прося их:
— Прекратите, ради Бога, сядьте и поедим лепёшек спокойно.
Они подошли к столу и сели. Хадиджа сказала:
— Ты, мамочка, не годишься для воспитания кого бы то ни было…
Мать спокойно пробормотала:
— Да простит тебя Аллах. Я отдам свою задачу по воспитанию тебе, чтоб только ты о себе не позабыла… — затем протянула руку к тарелкам. — Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного…
Хадидже было двадцать лет, и она была старше братьев, за исключением Ясина — своего брата по отцу — которому был двадцать один год, и была она сильной, полной — благодаря заслугам Умм Ханафи, — и слегка низковатой. Что до лица её, то она заимствовала из черт своих родителей гармонию, что в расчёт не шла: от матери унаследовала маленькие красивые глазки, а от отца — его большой нос, или скорее, его лицо в миниатюре, но не настолько, чтобы это было простительно, и как бы этот нос ни шёл её отцу, сколько бы заметного величия ни придавал ему, на лице дочери он играл совсем другую роль.
Аише же было шестнадцать: изумительно красивое лицо, изящная фигура,