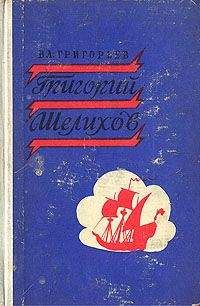Разойдясь с мореходом, Лебедев основал собственную компанию и заложил две-три фактории на берегах Кенайского и Чугацкого заливов. Передовщиками к нему пошли несколько старовояжных, побывавших с Шелиховым в Америке, но возвращенных мореходом в Охотск по той причине, что оказались неспособны ужиться с туземцами.
«Пропадут непутевые, а каку кашу расхлебывать нам доведется!» — думал Григорий Иванович, разбираясь на досуге в донесениях Деларова и Баранова о бесчинствах лебедевских людей среди кенайцев и чугачей. Он представлял себе лица перекинувшихся к Лебедеву старовояжных и досадовал: люди все крепкие — Потап Зайков, Коломнин, Забалушин, Коновалов… «Этот-то сущий зверь, этот и своих в железа возьмет, дай ему волю!» — вспоминал Шелихов мрачную фигуру партовщика Коновалова, которого он после памятного боя с конягами на Кадьяке арестовал и привез в Охотск судить за ничем не оправданные убийства замиренных островитян.
Коновалов свои преступления пытался взвалить на него, Шелихова. Подлекарь Мирон Бритюков, подлый человечишка, подкупленный Лебедевым, когда начались между ним и мореходом раздоры, подал в 1787 году бумагу капитану Биллингсу. До сих пор дело не кончилось, до Петербурга дошло, там и застряло, хотя Бритюков на допросе в совестном суде сознался, что по уговору Лебедева, наглотавшись водки, спьяна подмахнул бумагу, которую подсунул ему сквалыга-ярыжка Козлятников.
Среди кляузных дел, неизбежных в те времена при выдвижении простого человека из народной толщи, донос подлекаря Бритюкова всегда всплывал со дна тяжелых воспоминаний Шелихова. Тем более, что перед лицом собственной совести мореход и сам признавал за собой вину — вольную или невольную, кто ее разберет. А причина, чтобы винить его, была, — причина, наложившая до сего дня не смытое пятно на имя Шелихова, как человека и первого от России завоевателя Нового Света.
«Гришата, на что ты Коновалову рассудил доверить правеж над изменой кадьяцких американцев?» — эти слова Натальи Алексеевны, укоризненные глаза и голос ее навсегда запомнились мореходу, когда к ним в барабору, поставленную после высадки на острове Кадьяке, ворвались несколько промышленных с криком о том, зачем Коновалов зря людей переводит.
Пока Шелихов с десятком верных людей добежал до ущелья, в которое согнали покорившихся после ночного боя дикарей, Коновалов, хвативший спиртного для лучшего розмысла, распаленный гибелью своих товарищей, успел порубить и пристрелить несколько размалеванных черной краской воинов, да многих искололи и зарезали конвоиры из лисьевских алеутов, имевших давние кровавые счеты с кадьяцкими конягами.
В молодости лихой кулачный боец, Шелихов едва справился с пьяным, потерявшим рассудок Коноваловым, заковал его в кандалы и, продержав преступника под караулом, забрал с собою в Охотск. Вернувшись же домой, Шелихов смалодушничал, не дал хода кровавому делу: Лебедев и Голиков отстаивали Коновалова, да и сам Коновалов при попустительстве Биллингса исчез, убрался на время в родные места, куда-то на Колыму.
«Из-за сокрытия чужой и своей неправды — боялся, чтобы в жестокости и алчбе с испанцами и англицами не сравняли, — и поплатился», — укорял себя за это Шелихов. А Лебедев, проигрывая в неправом споре, на все шел, лишь бы опакостить дело, — ну и нашел Бритюкова! Бритюков коноваловское зверство подбросил Шелихову и Коновалова против Шелихова же в свидетели выставил.
Не дано человеку знать замыслы ни явных своих врагов, ни тайных недругов, — не знал и мореход, что Лебедев и Голиков, снова секретно вошедший в лебедевскую компанию, усмотрели в возвращении Резанова в Петербург угрозу своим расчетам перенять на себя шелиховское дело и стать хозяевами в американской земле. Вослед Резановым и Бему выехал в столицу бывший заседатель совестного суда Козлятников. Выгнанный с места, этот судейский крючок, находясь много лет под судом и следствием, занимался практикой подпольного ходатая по махинациям дошлых купцов.
У обоих компанионов были грехи и прорухи в торговых делах с анадырскими чукчами и ительменами на Камчатке, — они опасались снявшегося в столицу Бема. Козлятникову, чтобы отвести от себя неприятности и показать пример своей рачительной заботы правдоискателей, они поручили разворошить дело Шелихова о разорении американских селений и убийстве множества новых верноподданных, завоеванных державе стараниями купцов Голикова и Лебедева.
Учить Козлятникова не надо было. Голиков указал ему только одно — найти советника коммерц-коллегии Ивана Акимовича Жеребцова, с которым у торгового дома Голиковых были давние и прочные связи по откупам. Тихоструйный Иван Ларионович из обрывков рассказов, слышанных от самого Шелихова и через людей, — не умел мореход держать язык за зубами — догадывался найти у Жеребцова поддержку…
2
В середине мая Ангара очистилась от льда. Лед прошел уже и из Байкала, дальше потянулся по Енисею и ввергся в пучины Северного океана. Этим льдом Байкал, говорили тогда, кланялся Ледовитому океану. Из окна шелиховской комнаты, выходившего на задворье — в сад и на реку, было видно, как далеко за Ангарой голубели в весенней дымке гольцы и сопки тунгусской земли.
Шелихов, в ожидании разрешения на задуманную экспедицию, с нетерпением отсчитывал дни до середины лета. К этому времени, по его расчетам, должны были вернуться из столицы, конечно, уже на колесах, посланные дочерью и зятем кошевы с порохом и ядрами, которые предстояло получить из Кронштадтского арсенала. Хотя порох был и в Иркутске, как в Якутске, Гижиге и в Охотске, где снаряжались суда компании, и от долгого хранения на казенных складах этот порох часто, кстати сказать, приходил в негодность, — все же корабли дальнего плавания по положению могли получать его только из Кронштадта, для чего надо было преодолеть в оба конца двенадцать тысяч верст.
— Законы святы, да исполнители лихие супостаты! — ругался Григорий Иванович, прося зятя исхлопотать обещанные компании триста пудов пороху и другой огнестрельный запас, а равно наблюсти за погрузкой этого в Рамбове[30] и выпроводить обоз из столицы.
— В дороге, где ростепель застигнет, переждете, — наставлял Шелихов отправлявшегося с Резановым приказчика, — на колеса перегрузите — и к лету жду обратно…
В начале лета жара иссушила землю. Огромный спиртовой термометр Фаренгейта, подвешенный к кедру в конце шелиховского сада, показывал 115 градусов[31] — такая жара не часто выпадает в Иркутске, привычном к короткому летнему зною.
— Гришата, — сказала Наталья Алексеевна, едва разыскав мужа, занятого подвязкой кустов в малиннике близ пасеки, — прискакал казачишка и говорит, тебя к генералу требуют, к Пилю. «Пусть поспешает», — говорит…
«Разрешение на Китай доставили, что ли?» — думала она с замиранием сердца, но тревоги своей не обнаруживала.
— Разрешение? — задохнулся, спрашивая, Григорий Иванович. Проходили все сроки для выхода на поиск собранной и жившей при его усадьбе партии.
— Уж не знаю, что будет говорить… Куда же ты? — остановила она мужа. — В таком образе генералу объявишься? Одеться надо, цирюльника позвать… Ты погляди на себя, на кого похож стал!
— Камзол надеть? Шпажонку прихлестнуть? Парик нахлобучить? — спрашивал мореход и тут же рассмеялся, оглядев измазанные холщовые порты и снятый с головы гречишник.[32] — Ин, быть по-твоему!
Через час, на излюбленной тройке, с неизменным Никишкой на облучке, Шелихов подкатил к наместническому дому — дворцу, как называли его в Иркутске: именитые сибирские купцы обычно пешком из дому не выходили.
Скинув на руки дежурного унтера морской плащ и оставшись в атласном камзольном костюме кофейного цвета, Григорий Иванович оглядел себя в тускловатое зеркало — все ли в порядке — и, придерживая рукой жалованную царицей шпагу, зашагал в кабинет наместника.
— С виду дворянин или бери повыше — почетный иностранный гость, случаем занесенный в сибирские края, а на деле самый что ни на есть простой купчина! — шептались, завистливо оглядывая его, попадавшиеся навстречу знакомые чиновники.
При входе в кабинет Шелихов замешкался у порога, почувствовав сразу что-то неладное, когда увидел у Пиля членов совестного суда и какого-то дородного незнакомца в добротном суконном мундире столичного покроя.
«Пришел за разрешением, — подумал Григорий Иванович, — а тут, похоже, вязать собрались». И, смешавшись, поклонился, как заправский купец, вперегиб — низким поклоном, забыв и про камзол и про шпагу, которые отличали в нем не купца, а морехода.
Пиль по свойству своей сангвинической натуры обычно встречал Шелихова добродушной шуткой или грохочущим водопадом деловых расспросов, на этот же раз принял морехода сухо и официально. Видно было, что его превосходительство чем-то крепко недоволен и озабочен.