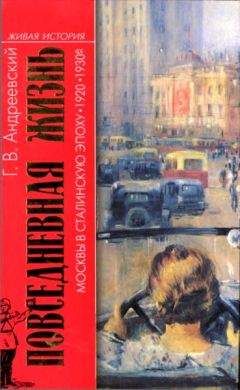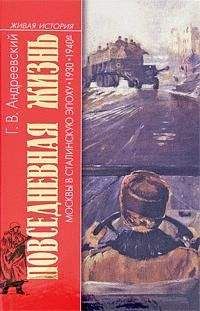Но долго так продолжаться не могло. Терпению любвеобильной Шарлотты пришел конец, когда Сашка в очередной раз обокрал ее и прокутил краденое со срамными девками. Скандальный бракоразводный процесс смаковался европейской прессой.
После развода Сашка Зубков стал республиканцем. Он покинул принцессу и начал выступать на эстраде, правда, под чужим именем. Пел пошленькие куплеты и рассказывал старые анекдоты. Во Францию, Бельгию и Германию его не пускали, и он завалился в Люксембург, где стал кельнером в одном из тамошних ресторанов. Как-то напившись, он забрался на эстраду и обратился к публике с вопросом: «Хотите, я расскажу вам о моей первой брачной ночи с принцессой Шарлоттой?» Публика, к ее чести, слушать откровения прохвоста не захотела и освистала его.
Зубков подался в артисты. Афиши театра, на сцене которого он подвизался, сообщали об участии в спектаклях «шурина последнего германского императора».
Потом Сашку видели за столиком в вильнюсском ресторанчике «Блины» на проспекте Гедимина, где под плакатом «Если водка мешает тебе работать — брось работу» он ронял пьяные слезы в пивную кружку. Закончил же свой жизненный путь Александр Зубков в нищете и умер от туберкулеза в больнице странноприимного дома в Бельгии.
Вот какие превратности судьбы поджидали наших людей на дорогах Европы в годы угаров и кризисов.
К сказанному можно добавить, что Сашка Зубков имел довольно паскудное отношение к известному случаю, произошедшему с Сергеем Есениным в Париже.
Приехав из Берлина в Париж, Сергей Есенин и Айседора Дункан остановились в отеле «Карлтон». Вечером в ресторане отеля был банкет. На банкете Дункан пригласил на танго наемный танцор. Дункан отдавалась танцу, а окружающими воспринималось — танцору. Есенин не выдержал и закатил скандал, после чего ушел в «Шахерезаду» — шикарный кабак, в котором блюда русской и французской кухни отпускались по бешеным ценам. Обслуживающий персонал ресторана составляли русские эмигранты — белогвардейские офицеры, а метрдотелем служил наш знакомый, Сашка Зубков. Есенину сразу не понравилась его холуйская рожа, и они чуть не подрались.
Перед отъездом в Германию Есенин, на сей раз вместе с Дункан, снова зашел в «Шахерезаду». Они сидели за столиком под большим абажуром. Официант, наполняя есенинский бокал шампанским, тихо сказал поэту: «Вот, господин Есенин, я флигель-адъютант свиты Его императорского величества, а теперь наливаю вам шампанское». — «А ты, холуй, меньше разговаривай!» — ответил Есенин.
В ответ на это флигель-адъютант ударил Есенина по физиономии, и тут же на него налетели еще шесть питомцев Зубкова. Они стащили с поэта костюм и в одном белье вытолкали на улицу.
Зубкова вскоре из метрдотелей «Шахерезады» выгнали, и он устроился в театр «Синяя птица», где и украл серебряную ложку, ну а что с ним случилось потом, вы уже знаете.
И тем не менее в России находились люди, которые Зубкову завидовали. Были это те, кто вместо высылки на Запад угодил в ссылку.
В марте 1925 года, например, из Москвы выслали и заключили в концлагерь сразу сорок пять человек. Среди них были пианист из кинотеатра Фроловский, модельер-художник Олышев, актер Волынский с женой, балериной Терновской, художник-реставратор Гвоздиков, преподаватель МГУ Судейкин и другие представители «ненужных» профессий.
В послереволюционные годы в России входило в моду единомыслие. К инакомыслию относились с недоверием: оно могло нанести вред хрупкому здоровью не окрепшего еще государства, на которое многие возлагали большие надежды. Тем не менее было немало тех, кто нет-нет да и брякнет что-нибудь невпопад. Такое бряканье не поощрялось: оно могло зародить в душе у кого-то сомнение в правильности политики партии или внушить представление о вседозволенности.
Несмотря на все трудности, в новой жизни было много свершений, и эти свершения служили аргументом в борьбе с недовольными и сомневающимися. Ну а как не наказать тех, кто не хочет замечать наших достижений?
Возьмем хотя бы некоторые из них. К 1938 году в Москве была ликвидирована оспа и в тринадцать раз сокращена заболеваемость сифилисом, работало четыреста амбулаторий, поликлиник и диспансеров, сто тридцать две больницы, было открыто девяносто два высших учебных заведения и сто сорок три техникума, каждый третий, живущий в Москве, учился, с безграмотностью населения было почти покончено. Были закрыты церковно-приходские школы и духовные семинарии, и советские дети, вместо того чтобы повторять сказки о непорочном зачатии, воскрешении и прочих несуразностях, засели за геометрию, химию, литературу и другие нужные и прекрасные науки.
К тому же Москва строилась. В конце двадцатых годов в ней были построены планетарий и Центральный телеграф, здание «Известий» на Пушкинской площади, а также здание будущего ЦСУ на Мясницкой улице. Оно состоит из стекла и бетона и стоит на столбах. В нем шестнадцать открытых кабинок лифта беспрерывно движутся вверх и вниз. Поравнялась кабинка с полом — сделал шаг и поехал. Поскольку дом проектировали иностранцы (Ле Корбюзье и др.), то и система этих подъемников заимствована была у иностранцев и называлась «Патер ностер», а по-нашему «Отче наш». Говорили, что лифты эти так назвали потому, что перед тем как прыгнуть в кабину, от страха «Отче наш» читали. Боязно, наверное, поначалу было прыгать. На самом деле название это напоминало о перебирании католиками четок при чтении молитв.
В 1937 году возникло и здание Северного речного порта, а потом дома на улице Горького и других улицах.
Планетарий же представлял собой целый звездный театр, а телеграф не только вызывал восхищение своим внешним видом и большим пузатым глобусом на фасаде, но и тем, что в нем творилось. Многочисленные девушки принимали телеграммы у граждан и переправляли их в зал, где стояли аппараты Морзе, по трубкам пневматической почты, а также подвешивая их закрепками, как белье к веревкам, к движущимся проводам. На верхнем этаже здания стояли телетайпы, они передавали телеграммы не точками и тире, а буквами на бумажных лентах. Телеграммы сюда поступали из правительственных учреждений. Из дверей нового здания то и дело выскакивали почтальоны, разносившие телеграммы по всему городу.
В общем, в Москве было что посмотреть и чем полюбоваться.
Чужими на этом празднике жизни вместе с аристократами, жандармами, офицерами, интеллигентами оказались и служители религиозных культов: священники, муллы, раввины, пасторы, ксендзы и ламы. Самым любимым словом, которым молодая советская пресса награждала тогда «церковников», было слово «изуверы».
Для большевиков церковь была страшна не только тем, что она распространяла «опиум для народа», то есть религию, но и тем, что являлась самой массовой общественной организацией. Число верующих во много раз превышало число коммунистов, и хотя партийных билетов они не имели, но зато были объединены идеей, в корне противоречащей коммунистической идеологии с ее атеизмом. Темный народ относил атеистов к нехристям, а нехристей к антихристам.
Новая власть, естественно, делала все, чтобы ограничить влияние своих конкурентов на народ. Дом в Донском монастыре, в котором жил патриарх Тихон, был заселен чекистами. Об этом вспоминает в книге «Исповедь агента ГПУ», изданной в Праге в 1925 году, Николай Беспалов. Его настоящая фамилия Бородин. В 1920 году он был завербован чекистами и освещал по их заданиям действия эсеровских организаций. Выехав на заграничную работу в Чехословакию, там и остался.
13 июня 1945 года он был арестован контрразведкой «Смерш» и умер в тюрьме. В своей книжке Бородин-Беспалов писал: «…позднее в доме патриарха поселился уполномоченный секретного отдела ГПУ «по духовенству» Генкин. Создавалось впечатление, что все живущие в доме советские люди — служащие Чеки. В мае 1923 года в связи с процессом московского духовенства был произведен обыск… весь штат патриарха арестован… а семьи тихоновских служащих были подвергнуты притеснениям, в довершение всех бед подворья были объявлены общежитием ГПУ. Стали выселять жильцов».
Самого патриарха Тихона, в миру Василия Ивановича Белавина, 19 январи 1865 года рождения, уроженца города Торопица Псковской губернии, арестовали 17 апреля 1923 года и обвинили в том, что он «составлял сведения о репрессиях, применяемых Советской властью по отношению церковников, пользуясь сведениями из недостаточно верных источников, имея целью дискредитировать Советскую власть». Обвиняли патриарха и в том, что он в своем послании призывал верующих к противодействию органам власти при изъятии церковных ценностей. Тихон по этому поводу на допросе пояснил: «Мое послание по поводу декрета об изъятии ценностей я не считаю контрреволюционным, так как в нем нет призыва к активному противодействию Советской власти». Спор об активном и неактивном сопротивлении шел долго. Патриарха отпустили. Он продолжал жить в Донском монастыре, но теперь уже под домашним арестом. Сказанные им в воззвании слова о том, что «…учитывая тяжесть жизни для каждой отдельной христианской семьи вследствие истощения средств, мы допускаем возможность духовенству и приходским советам с согласия общин верующих использовать находящиеся во многих храмах драгоценные вещи… на помощь голодающим», конечно, не устраивали новую власть, но и не давали возможности объявить Тихона врагом трудового народа. Патриарха в его резиденции даже посещали врачи. Ежедневно бывал у него доктор Щелкан, посещали его профессор Кончаловский, доктор Покровский, на консультации приглашался профессор Д. Д. Плетнев.