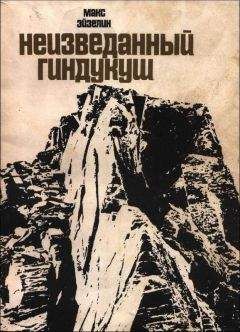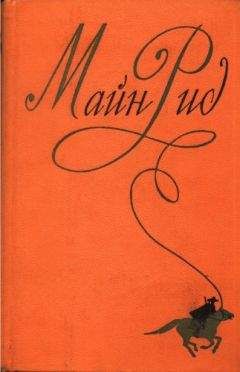Тут Уроз, не останавливая галопа, оторвал лицо от гривы и принял вертикальное положение. Турсун заметил волчью усмешку на лице сына. Он знал, что игра скоро закончится. И ему хотелось, хотелось до боли, только одного: помочь Урозу. Ему вспомнился тот незабываемый эпизод, когда его конь удивительным прыжком взлетел с ним и с обезглавленным козлом, на крышу степного домика, окруженного разъяренными соперниками, и когда он услышал голос-просьбу Уроза: «Отец! Чем могу помочь тебе?» И вот сейчас в сердце своем теперь уже он кричал: «Сын мой, сынок, чем я могу тебе помочь?»
В этот момент Уроз проносился по полоске газона, расположенной за длинным рядом сидений, где сидели в центре Осман-бай, Салех и Турсун. И словно услышав призыв отца, Уроз крикнул изо всех сил:
– Отодвинься, о великий Турсун. Отодвинься вправо!
Не раздумывая, Турсун оперся руками в ковры, поднял свое тело со скрещенными ногами и одним толчком перебросил его вправо, на пустовавшее место.
Не успел он проделать это, как горячее дыхание Джехола обдало ему шею и нечто, похожее одновременно и на большую лиану, и на человека, возникло в том же самом месте между Салехом и им и протянулось к парчовой подушечке.
Турсуну показалось, что движение и время вокруг него застыли навеки, в то время как мысли в его голове проносились, множились, искрились. Так вот что задумал Уроз! Самый трудный и опасный акробатический трюк на коне. Когда, держась одной ногой в стремени, чопендоз откидывается в сторону, вытягивается, зависает в воздухе, как бы плывет в нем, а затем вырывает у противника тушу козла и вновь почти немыслимым усилием возвращается в седло.
«На этом как раз он и сломал себе ногу во время Королевского бузкаши, – подумал Турсун. – Да и к тому же тогда для удержания равновесия у него была вторая нога, целая и невредимая. Теперь же – это же невозможно – он сломает себе еще и вторую ногу… Идиот! Тщеславный дурак! Клоун!» Но сколько Турсун ни ругал сына, он не мог по-настоящему разозлиться на него. Он знал, что Уроз идет сейчас на ужасный риск вовсе не для других. И тут тоже он делал это, чтобы превзойти самого себя. И Турсун стал умолять: «Демон, о демон огня, овладевший моим сыном, пусть в этот день Пророк будет с тобой заодно».
Лиана шевельнулась, вздрогнула, хлестнула Турсуна по боку. Он подумал: «Кость переломлена». И увидел, что слева от него возникла пустота… чудесная пустота. А за спиной – шум галопа, прекрасного галопа… Он посмотрел на парчовую подушечку… На ней ничего не было… Турсун откинулся назад. Уроз удалялся галопом с королевским вымпелом над головой.
Над толпой повисла тишина. «Что это, – подумал Турсун, – восхищение, неверие собственным глазам, возмущение, шок от полученного оскорбления?» Казалось, эту тишину никто и никогда не сможет нарушить. В какую сторону, по каким аллеям Уроз собирается умчаться? В каком тайнике, в какой норе хочет он спрятать трофей? Салех начал было движение, чтобы привстать. Но остановился, не кончив движения.
Уроз, доехав до конца пруда, исчез за деревьями и развернулся. Разогнал Джехола. И ветер дикой скачки придал победное биение и жизнь кусочку ткани в его руке.
– О Боже, чего он еще хочет? – прошептал Турсун.
Через мгновение и он, и все гости узнали это.
Подскакав к оставленному пустым месту, Джехол встал на дыбы. Вдоль гривы поднялась фигура Уроза. В руке его затрепетал вымпел, вздрогнул, и заточенное основание древка вонзилось в центр парчовой подушечки.
И тут, впервые в своей жизни, Турсун потерял над собой контроль. Он поднял к небу огромные ладони и громким, незнакомым для себя голосом закричал:
– Халлал! Халлал!
Все чопендозы подхватили клич. А за ними и другие гости. А барабан в руках Хайдала грохотал, пел… И вождь пуштунов разрядил в небо ружье.
Уроз же соскользнул на землю, легонько отодвинул Турсуна влево и уселся на место, которое так долго его ждало.
В долинах Меймене начинался рассвет. Турсун лежал на спине, словно грубо отесанная колода, и спина его занимала всю ширину чарпая.
Когда он открыл глаза, мутно-серый свет за окном был точно такого тона, какой встречал его первый взгляд каждое утро. «Ни минутой раньше и ни минутой позже», – подсказало ему зрение. Просыпающееся сознание еще не освободилось от остатков сновидений, таких же смутных, как и полутьма в спальне.
Видеть он мог только коричневую неровную поверхность потолка. Как обычно. У изголовья стояли две палки и темными линиями ограничивали его мир справа и слева. Как обычно. Дверь во двор тихо открылась. Это Рахим пошел к источнику за водой для омовений. Как обычно. А он, Турсун, был зажат тисками своего тела и должен был ждать, ждать, долго-долго ждать, пока одна за другой не отпустят его гайки заржавевшего тела. Все было так, как обычно по утрам.
И все же еще в полусне, в полутьме, где плавало его сознание, он ощущал легкое недомогание. Ему казалось, что вокруг него, в нем самом витает некий обман, какая-то фальшь. Освещение, все предметы, бача, его собственное тело, хотя и находились на постоянном месте в положенное время, но были уже не тем, чем прежде. Им не хватало устойчивости, равновесия, надежности… Турсун вдруг отчетливо осознал. Не хватало Уроза…
Напрягая все свои силы, всю свою волю, Турсун попытался выпрямиться. Ему не подчинился ни один мускул, ни одно сочленение. Единственной реакцией на это огромное усилие стало бешеное сердцебиение. Ему стало противно. Не из-за своей немощи. Он привык переносить ее без жалости и сочувствия к себе. Ему просто стало стыдно оттого, что, зная себя так хорошо, он уступил заведомо бесполезному желанию. Гнев, боль, заблуждение взяли верх над терпением и мужеством настоящего мужчины, обязанного терпеть то, что приходится терпеть.
Турсун задержал дыхание, пока у него не закружилась голова, пока он не оказался на грани потери сознания. Так ему удалось погасить в себе мысли и чувства. Когда он вновь вздохнул, к нему вернулись ясность мысли, мудрость, а соответственно, и гордость.
«Отныне так будет всегда, несмотря ни на что», – подумал Турсун.
Он вспомнил вчерашние бурные эмоции, превратившие его в игрушку страстей. Все эти ошибки, страхи… отчаяние… безумство… «Я не принадлежал сам себе, – подумал он. – Вся моя жизнь перешла в Уроза». Да, может быть, вчера это было простительно… На пороге глубокой старости такое сильное, такое новое чувство… Но теперь он открыл его, признал. Значит, больше уже не имел права вести себя неприлично, идти на поводу у внутреннего смятения.
«Настоящим мужчиной может считать себя только тот, – подумал Турсун, – кто спокойно воспринимает события, на которые он не в состоянии повлиять. Теперь я вижу, что задача оказывается намного более сложной, когда речь идет о любимом человеке. Так и пускай. Для счастья и переживаний за родного человека тоже существует закон. Они тоже составляют часть того, что освещается солнцем и покрывается ночью».
И Турсун поклялся принимать все, что бы ни случилось, сдерживать, укрощать движения своего сердца, управлять ими. Поклялся перед собой и перед Хозяином Вселенной. После этого он позволил себе подумать об Урозе. И из темницы тела своего мысленно оценил поведение сына с таким же спокойствием, с каким следил бы с высоты огромной башни за поведением совершенно незнакомого ему человека.
Банкет подходил к концу. Все вернулось в привычную колею. Было очень много съедено. Губы, бороды, а у некоторых и отвороты чапанов блестели от жира. Над прудом, над гостями плавали запахи пряностей, жареных барашков, шашлыка, кислого молока. Губернатор Меймене произнес речь во славу Салеха. За ним – Осман-бай. Затем распорядитель бузкаши всей провинции получил из рук чопендоза-победителя королевский вымпел. Он должен был хранить его до следующего года, а потом отвезти в Кабул, на новые состязания.
Кроме Турсуна, никто больше не обращал внимания на Уроза. А он сидел очень прямо на подушке, и лица его нельзя было разглядеть, потому что голова его была закинута вверх и обращена к небу, где начали появляться первые признаки вечера: поплыли легкие небесные ладьи, окаймленные золотом, подсвеченные коралловыми лучами опускающегося солнца.
Турсун задумался, почему память его с такой силой, с такой яркостью сохранила именно этот момент дня. Неужели у него появилась надежда, что Уроз, после своего подвига, обрел, наконец, безмятежное сознание и что теперь они оба будут до конца его дней наслаждаться покоем? «Неужели же, когда потребность верить в невозможное очень велика, то можно даже в моем возрасте еще надеяться на невозможное?» – подумал Турсун.
Тьма постепенно рассеивалась. Более отчетливо проступили детали потолка. Он закрыл глаза, чтобы не мешать внутреннему взгляду…