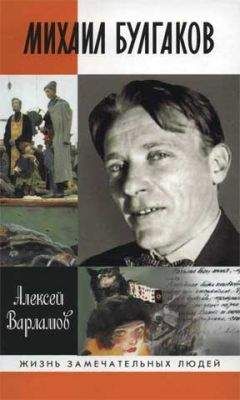Помню, через партер к сцене проходил театральный капельдинер и сообщал почтительно и торжественно:
– Савва Лукич в вестибюле снимает галоши!
Он был горд, что выступает в театре. И тут с нарастающей силой перекатываются эти слова как заклинание от оркестра к суфлеру, от суфлера дальше на сцену:
– Савва Лукич в вестибюле снимает галоши! – возвещают и матросы с корабля.
Директор театра, играющий лорда, хватаясь за голову, говорит:
– Слышу. Слышу. Ну, что ж, принять, позвать, просить, сказать, что очень рад…
От страха и волнения его снесло в „ Горе от ума“ на роль Фамусова.
В эпилоге зловещий Савва обращается к автору:
– В других городах-то я все-таки вашу пьеску запрещу… Нельзя все-таки… Пьеска – и вдруг всюду разрешена…
Постановка „Багрового острова“ осуществлена А. Я. Таировым в Камерном театре в 1928 году. Пьеса имела большой успех, но скоро была снята…» [8; 362–363]
Действительно, из трех поставленных в 1920-е годы московскими театрами пьес эта продержалась меньше всех, и вообще судьба у нее была странная. Булгаков представил рукопись в марте 1927 года, а Главрепертком дал разрешение на постановку лишь в сентябре 1928 года. Ситуация с «Багровым островом» была тем парадоксальнее, что со стороны автора это был удар по цензуре ниже пояса: Главреперткому предлагалось либо разрешить, либо запретить (дать «разрешеньице» или «запрещеньице») пьесу, одним из главных объектов сатиры которой был… сам Главрепертком. Тут воистину направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – голову свернут. Разрешишь – скажут, куда смотрели, запретишь – скажут, не принимаешь критику. Не исключено, что именно поэтому цензура тянула волынку, однако делать до бесконечности это было невозможно, и в конце концов разрешение было получено. Актеры кинулись репетировать, и 11 декабря 1928 года в разгар очередной, на этот раз самой мощной и успешной антибулгаковской кампании состоялась премьера.
«Багровый остров», этот булгаковский ответ Чемберлену – советским критикам, режиссерам, чиновникам, пасквилянтам – очень живая, веселая, остроумная пьеса о пьесе, спектакль о спектакле, где в нарочито сниженной форме проговаривались чрезвычайно важные для автора вещи и предвосхищались те образы и идеи, которые вошли потом в «Театральный роман»: причудливая смесь восхищения, раздражения, возмущения и бесконечной любви к самому явлению театра, не важно, великого, как Художественный, или провинциального, как тот, что выведен в пьесе. Булгаков написал пародию на современный ему театр, на шаблоны революционных пьес и, наконец, пародию на собственные произведения и их мотивы. Вот слова одного из его героев:
«Я лично стал во главе своей гвардии, подавал ей пример мужества… …но наши усилия не привели ни к чему.
Подавляющие несметные орды взбунтовавшихся рабов атаковали вигвам, и мы еле спаслись с оставшейся гвардией <…> И это все, что мне осталось, как дивный, чудный сон! Ужас! Волосы встают дыбом при взгляде на остатки доблестной гвардии, честно защищавшей своего законного правителя».
«Дни Турбины» и «Зойкина квартира» не только косвенно, но и прямо упоминаются в пьесе. «Театр, матушка, это храм… я не допущу у себя „Зойкиной квартиры“!» – говорит главный режиссер Геннадий Панфилович, и ему же принадлежит реплика, обращенная к цензору: «Савва Лукич! В моем храме!.. Ха-ха-ха… Да ко мне являлся автор намедни!.. „Дни Турбиных“, изволите ли видеть, предлагал! Как вам это понравится? Да я когда просмотрел эту вещь, у меня сердце забилось… От негодования. Как, говорю, кому вы это принесли?»
Это было его законное оружие, его суверенное право обороняться от обступавших пасквилянтов, и в «Багровом острове» сказались благородство и мужество писателя, физически неспособного согнуться, изловчиться и сподличать. Только – надломиться. Но пока что этого не произошло, и он чувствовал себя в силе и шел на бой со своими врагами так же открыто, как вел себя на театральных диспутах и обсуждениях, как разговаривал со следователем ОГПУ Семеном Гендиным, как писал Сталину. Сколь бы ни была возвышена, героизирована, наконец, мифологизирована в сознании читающей российской публики последних десятилетий фигура Михаила Афанасьевича Булгакова, здесь тот редкий, почти исключительный в истории нашей литературы случай, когда миф в своих основных положениях не противоречит истине и никакого сеанса с разоблачением Булгакова не выйдет, как бы ни трудились на этой ниве ни его, ни наши современники и современницы. К герою этой книги можно предъявлять сколь угодно претензий мировоззренческого толка, критиковать его за эгоистическое отношение к людям, за определенное высокомерие, которым он защищался и от врагов, и от «друзей», но за писательское, за гражданское, за творческое поведение – никогда. Особенно во второй половине двадцатых, когда он был еще полон сил и злости. В стране, где происходила чудовищная девальвация человеческой личности, это гипертрофированное чувство собственного достоинства и поражало, и раздражало. А он как будто нарочито дразнил гусей. Вот разговор между начинающим драматургом Дымогацким и прожженным режиссером Геннадием Панфиловичем в «Багровом острове»:
«Геннадий. <…> Итак, стало быть, акт первый. Остров, населенный красными туземцами, кои живут под властью белых арапов… Позвольте, это что же за туземцы такие?
Дымогацкий. Аллегория это, Геннадий Панфилыч. Тут надо тонко понимать.
Геннадий. Ох уж эти мне аллегории! Смотрите! Не любит Савва аллегории до смерти! Знаю я, говорит, эти аллегории! Снаружи аллегория, а внутри такой меньшевизм, что хоть топор повесь!»
Или другой диалог с участием режиссера Лорда и цензора Саввы Лукича:
«Лорд. <…> Метелкин! Если ты устроишь международную революцию через пять минут, понял?.. Я тебя озолочу!..
Паспарту. Международную, Геннадий Панфилыч?
Лорд. Международную.
Паспарту. Будет, Геннадий Панфилыч!
Лорд. Лети!.. Савва Лукич!.. Сейчас будет конец с международной революцией…
Савва. Но, может быть, гражданин автор не желает международной революции?
Лорд. Кто? Автор? Не желает? Желал бы я видеть человека, который не желает международной революции! (В партер.) Может, кто-нибудь не желает?.. Поднимите руку!..»
Критика увидела в этих разбросанных по пьесе остротах, равно как и во всем ее сюжете, покушение на революцию, «…клеветнический памфлет М. Булгакова „Багровый остров“, пародирующий с холодным злорадством революционный процесс Октября под предлогом обличения бездарной, фальшивой современной тенденциозно скороспелой литературы» [133; 37–38], – писал Павел Новицкий в журнале «Печать и революция». И ему же принадлежит рецензия для внутреннего пользования, опубликованная несколько ранее в «Ежемесячнике Художественного отдела ГПП» (Главполитпросвета): «Идеологические финалы надо высмеивать. С казенными штампами бороться. Приспособляющихся подхалимов надо гнать. Дураков – истреблять. Но надо также различать беспощадную сатиру преданных революции драматургов, не выносящих фальши, лжи и тупости, услужливых глупцов, спекулирующих на революционном сюжете, и грациозно-остроумные памфлеты врагов, с изящным злорадством и холодным сердцем высмеивающих простоту услужающих и политическое иго рабочего класса» [106; 9–10].
Надо признать, что здесь весьма точно расставлены акценты, только вот беда: не было у революции преданных ей драматургов класса Булгакова, что очень скоро признает в письме к Билль-Белоцерковскому Сталин, а пока что критика без устали отрабатывала на Булгакове свой горький хлеб. «„Багровый остров“ по форме – пародия на театр, по существу – пасквиль на революцию, – утверждал И. Бачелис. – Булгаков – писатель одной темы, одной – белой – идеи. В „Багровом острове“ эта идея – художественно бесплодная, политически мертвая, общественно изолированная идея! – дает убогие всходы, гибнущие тут же на сцене от холодного замораживающего равнодушия зрительного зала <…> Трагедия автора пьесы не нашла лучшей аргументации, как в крушении его мечты о зернистой икре и трости с набалдашником! Злые языки утверждают, что автора-репортера Булгаков наделил некоторыми автобиографическими чертами… Что ж, тогда нам остается принять к сведению эти движущие силы его творчества <…> Но как бы ни звучал авторский вопль на сцене, характерно уж то, что Камерный театр выпятил этот момент. Этот пробный выпад театра – выпад осторожный, с оглядкой, – но выпад» [33; 644–645].
«Против факта не попрешь, – сатирического таланта у Булгакова нет. Есть слюна, даже бешеная пена… Все банально, плоско, стерто и дешево. Мы можем извинить самую грубую ругань, если она талантлива. Но что поделаешь, когда идет один только скверный душок, пахучий до невыносимости?» [33; 643–644] – бессильно бранился известный еще с дореволюционных времен театральный критик И. Туркельтауб.