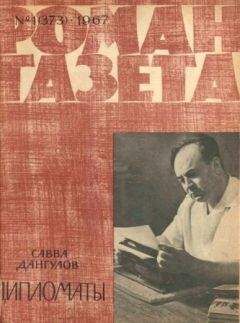— Почему же? Чем отчаяннее правда, тем лучше.
— Но мне не нужна абстрактная правда, отчаянная и злая. Федор Павлович. Нужна правда, помогающая мне сохранить Октябрь и осуществить мой коммунистический идеал…
— А это уже от вас зависит, сбережете вы или нет свой идеал. Если вы сильны силой наших идеалов, выдюжите. Если хилы, туда вам и дорога!
— Значит, это риск?
— Ну что ж, пожалуй, риск!
— Но рисковать делом, за которое отдали жизнь миллионы, да и жизнь… вашего сына среди них, Федор Павлович, имею ли я право?
Клавдиев затих. Казалось, его воинственная энергия остановилась. На секунду остановилась. Потом он пришел в себя, взметнул ладонь.
— А вы думаете, что, отказавшись от возможности говорить друг другу правду, вы не рискуете делом, за которое отдали жизнь миллионы? И моего Колюшки жизнь…
Клавдиев умолк неожиданно, но Петр понимал, что где-то на оборванной его собеседником фразе сшиблась правда Клавдиева с его, Белодеда, правдой.
— Мы молодая демократия. Федор Павлович, и нам еще торить и торить нелегкие наши дороги, но мы сбережем возможность говорить друг другу правду.
Дверь на кухню все еще была открыта. Слышно было, как кто-то накачивает примус короткими и быстрыми рывками.
— Поймите, если правда монополизирована… — убежденно начал Клавдиев.
— А вы не пугайте меня этой вашей формулой, Федор Павлович, — прервал его Петр. — Моя правда действительно монополизирована, и считаю это справедливым.
Клавдиев онемел — только дрожала его бородка да грозная просинь выступила на желтых его щеках.
— Это какая же такая ваша правда? — спросил наконец Клавдиев.
— А та, что я добыл кровью, Федор Павлович, не было бы ее — смерть мне и революции моей.
Клавдиев молча закачался на каблуках.
— Я хочу вас просить об одолжении, — вдруг заговорил Клавдиев. — Не были бы вы любезны написать бумажку в министерский архив? Нет, не в питерский, а в московский?
Казалось, Петр воспрял: ну вот, разговор наконец пошел на лад. Да и дело доброе: Клавдиев решил вернуться к работе — это хороший признак.
— Разумеется, могу, Федор Павлович, да есть ли в этом необходимость? Приходите и работайте, я все сделаю сам.
Клавдиев встал — грозно шевельнулись брови. «Ну вот, сейчас махнет всесильным своим хвостом, и все рухнет», — подумал Петр.
— Вы уже видите меня… государственным клерком? — Клавдиев принялся раскачиваться, как там, в Глазго, с каблука на носок, с носка на каблук. — Совесть… на казенный замок, да?
Когда Петр вновь очутился в коридоре с изразцами, примус уже не гудел — он наверняка взорвался.
Наверно, нужна еще одна беда, которая все потрясет, все перевернет вверх дном и потом поставит на ноги, думал Петр. Беда, от которой померкнет небо. Да есть ли у него силы принять эту новую беду и совладать с нею? Ох, накличет он на себя горя горького!
Петр шагал и шагал: Смоленская, Зубовская, Хамовники… нет, он и не хотел в Хамовники… А куда он шел? И вновь Остоженка, особняки, ее каменные дворы, ее липы и каштаны, ее палисадники. Нет, здесь человек не поможет, да есть ли еще другой такой человек? Он остановился — где-то здесь дом Репниных. Не хочет ли он в Елене найти Киру? Петр постучал в окно — Елена, наверно, читала, да не один час просидела над книгой, и теперь, стараясь согреться, принялась растирать руки от запястья до локтя. Нечего сказать, молодость, в августе замерзла.
— Откуда вы в такое время? — заметила она, распахивая окно пошире.
Он просиял — как все-таки хорошо, что застал се.
— Кто же сидит сейчас дома? — спросил он и подивился беспечно-радостному тону, с которым произнес эти слова. — Выходите, пошагаем!
Она передернула плечами — все еще было холодно.
— А не поздно ли? — вымолвила она и смешно наморщила нос: он видел, ей хотелось пойти, но не отпускали уютные сумерки дома, горящий ночничок под бумажным абажуром и, конечно, книга, ее тепло, ее воздух, такой обжитой, домовитый.
Они шли по Пречистенке, и он нет-нет краем глаза посматривал на нее: аккуратная головка с копной коротко остриженных мальчишеских волос и вообще она больше похожа на мальчишку. Нет, это не Кира. Но в глазах что-то жертвенное, жажда необыкновенного. Он не мог не подумать: и зачем он извлек ее из дома, оторвал от книги, с которой ей было так хорошо?
— Послушайте, Елена Николаевна, что такое женский характер? — Он все еще был со своими мыслями и не хотел с ними расставаться.
Она взглянула на него, чуть прищурив глаз, совсем по-мальчишески.
— Женщина в большом и малом неожиданна.
«Ей очень хочется быть старше, чем она на самом деле», — подумал Петр. Он слушал вполне серьезно — это воодушевило ее.
— Хотя она молится богу только мужского пола, казнит себя его казнью, но никогда не признает власти его над собой…
Белодед не удержал улыбки, она заметила это и тут же все обратила в шутку, — торопливость, с которой она это сделала, свидетельствовала, как ей не хотелось быть жертвой его иронии.
— Я ее возвеличила, эту женщину, которую вы знали? — спросила она и засмеялась, встряхнув мальчишескими кудрями. — Вы не хотите признать ее превосходство над собой? — Она продолжала смеяться.
Она пыталась выйти из положения с той же настойчивостью, с какой только что произносила свои аксиомы.
Сейчас они шли по Староконюшенному. Ему показалось, что парадная дверь их дома распахнута, у самого крыльца стоит извозчик.
— По-моему, это у нас… — Они прибавили шагу.
Да, дверь распахнута настежь, впрочем, раскрыты и окна, в доме народ, слышны голоса, говорили где-то в глубине дома, быть может наверху.
— Войдемте вместе, — сказал он. Он заметил, ее никогда ни в чем не надо упрашивать, если она это считает разумным, делает все легко и просто.
Они вошли. Послышался острый запах карболки, очень острый.
— Я так и знал — Лелька!..
Дверь вдруг распахнулась, и что-то круглое, закутанное с головы до ног вихрем выхватилось в коридор и чуть не сшибло Петра.
— Ты… Раиса? — вскрикнул Петр, он узнал соседскую девчонку.
— Ой, крест, крест!.. — закричала Раиса и помчалась дальше. — Лельке худо!
— Вот, сердце мне сказало!..
Он переступил порог. На кровати, той самой, никелированной, что мать привезла с Кубани, Лелька. Лицо пергаментное, и сама не толще пергамента, будто на белом чахоточном огне сушили сто лет и обратили в бумагу. Мать — в изголовье, скрестив руки, ненастна, словно небо перед степным бураном, губы — клещами не разомкнуть. Увидела сына — глазом не повела, все железо собралось у нее в ту минуту в сердце, все железо, которое она в своей жизни калила, ковала и гнула.
Лишь сейчас Петр увидел человека, сидящего рядом. Белая рубаха была расстегнута, волосатые руки обнажены, лицо влажно, грудь, поросшая рыжими волосами, тяжело вздымалась, человек шумно дышал. Видно, он только что ворочал пудовыми ящиками и, отчаявшись сдвинуть с места, присел отдохнуть, чтобы тут же вновь взяться за дело. И вообще у него было лицо не врача, а рабочего, много лет имевшего дело с металлом, с металлической стружкой; казалось, металлическая пыль намертво въелась в кожу, сделав лицо серо-стальным, неживым — ни солнце, ни мыло не возьмут металла.
— Жить будет? — спросил Петр.
— Дадим жизнь, будет, — ответил врач, не глядя на Петра. Встал и пошел вон из комнаты, словно приглашая идти за ним.
Петр пошел вслед, но в коридоре, который все еще был погружен во тьму, его остановил голос врача.
— Вы должны знать: ей очень плохо — брюшной тиф, где-то напилась плохой воды. Нет тифа злее, чем тиф… восемнадцатого года!.. Сердце… оно у нее и прежде было не богатырским, а тут!.. — Врач потряс кулаками и беспомощно опустил. — В общем, нужны ум и глаз день и ночь. И еще: отлучаться, даже как я сейчас, нельзя, отлучишься — убьешь!
Врач ушел. Петр продолжал стоять в темноте. Тишина мягко обтекала его, железная тишина белодедовского дома — неслышное дыхание Лельки, сомкнутые губы матери, тяжелые, точно вросшие в пол сундуки и комоды. Оказывается, можно накликать и беду. Вот и пришла она, вторая беда. Да, пожалуй, вторая… Попробуй прими ее на плечи, отрази сердцем; если и отражать, то сердцем, все остальное не выдюжит, сдастся. Он подавил вздох и пошел за врачом; у окна, того самого, матового, стояла Елена.
— Я все слышала, — сказала она, и он вдруг почувствовал у себя на груди ее руку. — Что, если этим человеком буду я?
— Каким человеком? — Он еще не очень понимал.
— Тем, что на дни и ночи…
Елена точно приковала себя к никелированным прутьям Лелькиной кровати, к сумеркам комнаты, затененной остролистой ивой. Где-то на исходе первой ночи невидимо сомкнулись ночь и день. Сомкнулись и точно обрели один цвет, цвет желтого электричества, ярко-охристых стен, белесых простынь и изжелта-карих глаз Лельки, хотя в иное время они, наверно, были серыми…