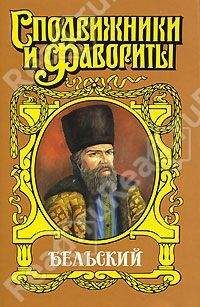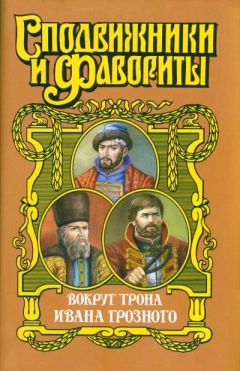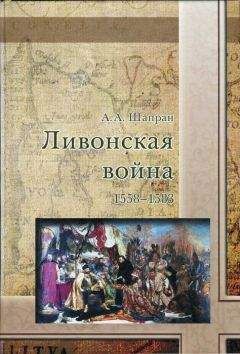— Я отдана Господу Богу.
— Насильно же.
— Какое это имеет теперь значение? Я инокиня Марфа, и мое место в монастыре, где я буду молить Всевышнего о твоем долгом и благополучном царствовании.
Никакие уговоры не действовали. Она согласилась пожить во дворце лишь до тех пор, пока не приготовят ей достойную царицы келью в Вознесенском девичьем монастыре.
И еще она не возразила против того, чтобы Русь присягала не только сыну, но и ей, как царице. Для Дмитрия Ивановича это было очень важно, тем более, что подобное не внове для Руси: целуя крест Борису Годунову, присягали и здравствующей царице. То же самое повторил и Федор Годунов — в первую очередь присягали его матери, вдове Марии Годуновой-Скуратовой, и лишь следом, как бы в пристяжку, ему — царю Федору.
Дмитрий Иванович собирался повторить опыт противников своих и был весьма рад, что мать не отказала.
Теперь можно назначить и день венчания на царство. Он угодил как раз на праздник бога Купалы. Случайно такое вышло или специально, Дмитрий никому не объяснил. Даже иезуитам. Русские люди, хотя уже почти поголовно крещенные, не забывали этого задорного праздника в честь бога земных плодов перед сбором хлебов. Непременно топились бани, затем всю ночь, особенно молодежь, водили хороводы на берегу речек, приносили как жертву доброму богу купальницу, но не менее привлекателен был для народа этот праздник тем, что в ту ночь не осуждались никакие вольности, и в прибрежных кустах до самого утра хихикали и взвизгивали уединившиеся парочки. Не были ревнивыми в ту ночь ни мужья, ни жены.
Москва загодя, как обычно, готовилась к этому озорному празднику, и вдруг — вся подготовка козе под хвост: венчание на царство. Выходит, забудь о Купале. Не поспешишь в Кремль по доброй воле поглазеть на венчание, принудят неволею: не быть же Кремлю в день столь величайшего события для державы полупустому.
А вечером и ночью? Бочки с медом хмельным, с брагою на всех, почитай, перекрестках, все трактиры и питейные монопольки открыты настежь, заходи, пей и закусывай безденежно, за счет царской казны — какая уж баня, какие хороводы на берегу Москвы-реки, Неглинки, Яузы, Сходни? Молодежь если только осмелится на это.
Ладно, махнули рукой на Купалу москвичи — не остатний год в жизни, а венчание на царство — красиво и важно. Да и на дармовщинку чего не погулять? Без недовольства заполнили Кремль до отказа. Радостно приветствовали они венчаемого на престол Дмитрия, желая ему многих лет жизни и спокойного царствования, но лишь до тех пор, пока вышедшего из храма помазанника Божьего, не успевшего сойти с паперти, встретил приветственной речью иезуит Николай Черниковский на языке латинском, лишь единицам россиян знакомом.
Иезуит что-то говорил, а площадь перед храмом словно сквозняком прореживалась: крестясь и отплевываясь многие москвичи покидали Кремль, а потом у бочек с хмельным медом и брагой, в трактирах и монопольках всю ночь напролет судачили, вовсе забыв про Купалу, о непонятной речи паписта. Безбоязненно (пьяному море по колено) выплескивали даже такие речи:
— Велел латинянин, должно быть, всю Россию в папистскую веру переманить! Губа не дура — эк какой лакомый кусок!
— А сам-то Дмитрий Иванович не папист ли случаем?
И тут вроде бы случайно оказавшийся попик со своим словом:
— Истине говорю вам: папист. Принял он католичество.
В ту ночь церковники, особенно приходские, по указке, конечно, архиерейского клира, так и сновали меж пирующими. Их понять можно: разве хочется терять духовную власть и необъятные доходы?
Многие москвичи в ту ночь и по своим убеждениям, и по слову священников позапирались в своих домах, отказавшись от щедрого царского угощения, и от хороводов на берегах речек, а молились неистово перед образами, что висят в красных углах каждого православного дома, моля Господа не позволить еретикам надругаться над верой праведной.
Но не только черные люди, купцы, ремесленники и гулящие поворотили носы от царя-батюшки, даже бояре глядели на Дмитрия Ивановича иначе. Хотя на пиру возносились велеречивые здравицы в его честь, искренности, какая была прежде, уже не было — лицемерие пролегло между царем и его боярско-княжеским окружением.
Дмитрий Иванович, однако же, не замечал ничего. Он упивался своим величием, самодержавной властью, а поляки с иезуитами все плотнее облепляли трон, и в Кремле начал праздновать победу новый уклад жизни: теперь слуги, одетые на польский манер, подавали к царскому столу даже телятину, заповедную для русского человека. Сам царь не ложился спать после обеда, как издревле веками делали все, от венценосцев до простолюдина.
Все более и более терял Дмитрий Иванович уважение бояр, дворян, всей дворни, дьяков и подьячих, но Бельский даже не пытался что-либо изменить, решительно влияя на государя. Он даже не докладывал, что был обязан делать как оружничий, о той враждебности, какая появляется у москвичей, ни слова не молвил о лицемерии боярском, ко всему он относился с полным безразличием. Но вот к нему в дом наведался воевода Петр Басманов с серьезным упреком.
— Ты, великий оружничий, спас жизнь Дмитрия Ивановича, твоими усилиями возведен он на престол, отчего теперь ты позволяешь ему забредать все дальше и дальше в болото? Государь более слушает моих советов, чем твоих. Ты отдаляешься от него, и он это видит.
— Верно ты подметил. Я действительно отдаляюсь. Но моя ли в том вина? Я — оружничий, но кроме меня Дмитрий Иванович заимел у своей руки двух тайных секретарей, Яна и Станислава Бучинских. Выходит, он не доверяет мне, не доверяет Сыску, который создан его отцом. Он заключил какой-то тайный договор с Сигизмундом и Мнишеком, а я, его опекун, не был даже извещен об этом шаге. Разве это допустимо?! Пусть сползает в омут, пусть засасывает его болотная трясина, я постою в сторонке.
— Не тешь свою обиду, Богдан Яковлевич, подумай о державе. Иль Дмитрий Иванович не может управлять державой? Мы с тобой лучше всех знаем, что может, и не нам ли направлять его на верную стезю?
— Еще в Польше при первой встрече я понял, что Дмитрий далеко не мальчишка-несмышленыш, но муж, видящий далеко вперед и умеющий распознавать хитрость и лукавство, но…
— Я знаю, что ты скажешь: его основательно захомутали паписты, а ты предупреждал, убеждал. Но я скажу так: без должной настойчивости. Ты безоглядно веришь слухам о каком-то тайном договоре, но есть ли он? Я тоже верил Годуновым, что Дмитрий Иванович — Члжецаревич. Ты нянчишь свою обиду, иезуитам же это весьма кстати. Мнишеку и иным с ним тоже усладно. Не пора ли нам самим засучить рукава?
— Хорошо. Пойдем вместе. В одиночку я уже отчаялся.
Вошли они в царев дворец без задержки, стража хорошо знала, что вхожи они к царю в любое время, но перед дверью в комнату, где обычно принимал Дмитрий Иванович советников, восседая на малом троне, их остановили.
— Государь беседует.
— С кем?
— Выйдет, сами увидите.
Более получаса вынуждены были сидеть они на лавке, сложивши руки на коленях и сдерживая недовольство, чтобы, когда начнется важная беседа, не спороть горячки. Вот наконец дверь отворилась, и из нее вышел иезуит Черняковский. Холодно кивнув великому оружничему и главному воеводе, важно прошествовал на выход. По его лицу было видно, да и по походке, что он весьма доволен разговором.
Бельский и Петр Басманов вошли в приемную и встали у двери в полупоклоне.
— На разговор к тебе, государь, на серьезный, — объяснил свой приход воевода Басманов. — Решили: вдвоем сподручней и убедительней.
— Коли так считаете, садитесь. Послушаю вас.
— Ты заставляешь ждать верных тебе слуг за дверью, беседуя с врагом православия наедине. Мы бы разве стали помехой? Или нам нельзя знать, о чем ваша беседа? Разве не осудительно это для царя православной Руси?
— Но я пекусь о подданных своих, чтобы они стали настоящими людьми. Иезуиты по моему разрешению построят в Кремле свой храм и при нем откроют училище. Второй шаг — университет. На манер английских, французских, немецких.
— Иль русские сами своей грамоте не обучены? Иль церковно-приходских школ у нас нет? Иль от отца к сыну рудознатство, плавильное дело, оружейное мастерство и иное ремесленничество не передается у нас?
— Не о пытливых и ищущих я говорю, а о спесивых вельможах, о служках и купцах, да и о простолюдинах. Скину с бояр длиннополые их кафтаны, с людишек армяки вонючие, одену в одежды изящные. Бороды тоже велю побрить.
— Неудобна одежда папистов для нашего короткого, но жаркого лета, для нашей длинной холодной зимы. Да и борода от мороза лицо бережет. Муж без бороды, что баба. Недовольство поднимется великое.
— Ничего, свыкнется, слюбится.
Долгая пауза, и заговорил опекун:
— Ты знаешь, государь, что мною сделано много, чтобы занял ты Богом определенный тебе престол. Ты знаешь и то, что воевода Петр Басманов, перейдя на твою сторону по моему совету, в один день изменил соотношение сил твоих и твоего противника. Делали мы это ради сына Ивана Грозного, ради величия Руси, ради блага ее и процветания. Сегодня мы видим, что вновь нужно спасать тебя, государь, да и Русь тоже. Тебя от заблуждений, Русь от иезуитов и шляхетского вероломства.