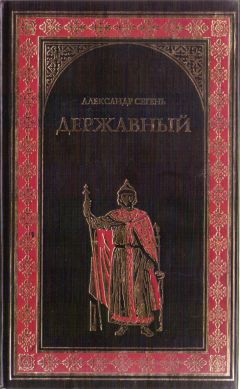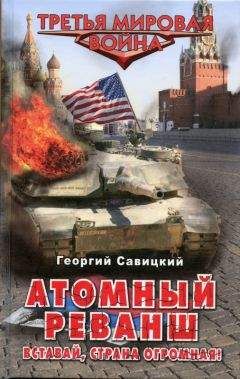— Сочиво, — подсказал Щеня. Он поблагодарил «волхвов», слез с коня и отправился в Грановитую палату. Сын было увязался за ним, но Данила Васильевич строго приказал ему отправляться домой к матери, братьям и сёстрам и уже с ними вместе приходить в Успенский собор ко Всенощной.
Поднявшись по Красному крыльцу, большой воевода выяснил, что Державный изволит сочевничать вместе с сыном, великим князем Василием Ивановичем, в самой палате. У дверей палаты бодрствовал постельничий Иван Море, который не сразу впустил главного воеводу.
— Что доложить Державному? — спросил он нагло.
— Что доложить? — возмущённо удивился Данила Васильевич. — Скажи, главный волхв прибыл, Вультазарий. «Что доложить»! Ишь ты!
Постельничий ушёл. Тотчас возвратился:
— Просят.
Войдя в палату, Данила Васильевич подивился, сколь обильно она была украшена в этом году всевозможными цветами, еловыми и сосновыми ветвями, разноцветными шёлковыми лентами. Многочисленные столы, укрытые бархатными алыми скатертями, выстроились рядами по всему пространству палаты, в ожидании, когда их начнут огружать яствами и когда явятся гости. Высоченные своды дивной великокняжеской гридницы, возведённой пятнадцать лет назад фрягами Марком и Петром для заседаний Боярской думы, приёма послов и совершения великих торжеств и пиршеств, были пока ещё темны. Лишь в одном углу при свечах сидели сам государь Иван Третий, сын его Василий, пятый год вместе с отцом носящий титул великого князя, двенадцатилетняя дочь Державного, любимица Дуняша, митрополит Симон, боярин Яков Захарьевич Кошкин-Захарьин да чуть поодаль в сторонке — дьяк Долматов. Они уже закончили сочевник и теперь попивали что-то из высоких стаканов. Среди своих сотрапезников Державный резко выделялся мертвенной бледностью, худобой, безжизненным взглядом, и Щене до боли стало жалко его, а в памяти воскрес тот облик государя, что приснился ему сегодня, — живого, радостного, пирующего в честь победы. Хотя кончился-то сон чем?..
— Здравствуй, Державный! — коротко поздоровался воевода.
— Здравствуй, Даня, — тихо промолвил в ответ больной государь. — Садись, болярин, испей с нами клюковного взварцу.
Довольно внятно произнесены были слова, и Данила Васильевич порадовался. Значит, неплохо себя чувствует Иван Васильевич. Иной раз бывают дни, когда вообще одно мычанье из уст его исторгается.
Поклонившись митрополиту, великому князю Василию и Кошкину, Щеня присел на край скамьи, отведал кисло-сладкого взвару и спросил:
— Как попивалось, Иван Васильевич?
— Плохо, — махнул здоровой правой рукой Державный. — Сонюшку покойницу опять во сне видел. Зовёт.
— Куда? — удивлённо спросила княжна Евдокия.
— К себе, Дунечка, к себе, — криво улыбнулся одной половиной рта Иван Васильевич. — В ирий. В рай то бишь.
— В рай? — малость кривляясь, пискнула княжна. — А в раю-то хорошо ведь!
— Хорошо-то хорошо, — сказал Державный, — да боюсь, не попаду я туда. По дороге занесёт меня, да и свалюсь вниз, в пекло. Никто ведь меня туда под руки не поведёт, придётся самому кое-как ковылять. Вот и грохнусь.
— Я с тобой пойду, — заявила княжна. — Доведу до матушки и обратно ворочусь.
— Погоди, Дунюшка, — возразил Иван Васильевич. — Я ведь ещё на твоей свадьбе погулять желаю.
— Данило Василия, — сказал тут великий князь Василий Иванович, — ты ведь, я чай, не просто так явился? Случилось ли что?
— Да вот… — вдруг замялся Щеня, подумав, что, быть может, Державный и не знает про избу для еретиков. Может быть, это уже Василий распоряжается.
— Сказывай уж! — повелел Державный.
— Видел я, — отвечал, была не была, Данила Васильевич, — что за стеной на рву дом для жидовных ладят. И, сказывают, жечь их там завтра будут.
— И что же? Никак, тебе жалко их стало? — спросил государь.
— Жалко?.. Нет, не жалко, — покачал головой воевода. — Давно пора покончить с поветрием гнилым.
— Вот мы с отцом и порешили завтра испепелить их, — сказал великий князь Василий.
— Из огня да в полымя, — сказал митрополит. — Из огня земного в полымя адское.
— От Ивана — к Иваку, — с усмешкой добавил Кошкин-Захарьин.
Сия поговорка также вошла в обиход на Руси в тот славный год победы над Ахматом. Бежав с берегов Угры, Ахмат нашёл тою же зимой смерть свою в степи от ножа злого соперника — сибирского хана Ивака. Спасался от Ивана, а попал в лапы к Иваку.
Помнится, когда узнали о том, кто убил несчастного Ахмата, очень смеялись.
— Нехорошо сие, не по-христиански, — набравшись смелости, сказал Данила Васильевич. — Негоже в праздник Светлого Рождества Христова людей казнить. Да ещё и такой лютой казнью. В праздник милуют, а мы казнить… Нехорошо, нет!
— А мы и помиловать намереваемся, — сказал с улыбкой великий князь Василий. Улыбка эта недобрая у него была. Ни у отца, ни у покойницы Софьи такой улыбки не бывало. Может быть, от прабабки передалось, от Софьи Витовтовны? Или от Фомы Палеолога. Говорят, тоже был не сахар.
— Помиловать? — недоверчиво переспросил Щеня.
— Одного, — сказал Василий Иванович.
— Одного?
— Ну да, в честь праздничка и объявим одному из них помилование.
— Это правда, Державный? — спросил Данила Васильевич великого государя Ивана.
— Правда, — кивнул тот. — Только ещё не решили, кого именно пощадим. Мне Волка жалко, а Васе — Митьку Коноплева.
— Хм, — не зная, что сказать, хмыкнул Щеня-Патрикеев. Тут вдруг его осенило: — И сие тоже нехорошо, государь!
— Как?! Опять нехорошо? — вскинул поседевшие кустья бровей Иван Васильевич. — Отчего же?
— Да оттого, что сие прямо-таки по-жидовски и получится, — сказал Данила Васильевич. — По жидовскому закону. Про Варраву-то что писано в Евангелии?
— А ведь верно толкует воевода-боярин, — покивал одобрительно митрополит Симон. — Токмо се не жидовский закон, а обычай игемона Пилата. Матфей глаголет: «На всяк же праздник обычай бе игемон отпущати единаго народу связна, егоже хотяху». Прав князь Данила, нельзя миловать одного. Скажут, что государь Московский аки игемон Пилат. Соблазн! Либо всех казнить, либо всех миловать.
— Так что ж мне — отменить казнь завтреннюю? — спросил Державный. — Помиловать всех ради праздника?
— Ну уж нет! — возмутился Василий Иванович.
Посмотрев на него, Данила Васильевич попытался припомнить, каков был отец в его годы, в двадцать пять. Нет, не такой. Мягче, сердечнее. И — красивее. Внешне и душою, всем — красивее.
— Миловать не надо, — сказал князь Щеня. — Но перенести казнь с завтрашнего дня на какой-нибудь иной, по-моему, следовало бы.
— Пожалуй, прав боярин, — вновь одобрительно кивнул митрополит Симон.
— Прав-прав! — проворчал Державный. — То, о чём он советует, ты, твоё Святейшество, должен был мне сказать. Стыдно! Воинственный муж, немало крови проливший, учит нас и тебя, первосвященника Русского, как быть христианами православными!
— Виноват, — вздохнул митрополит. — Ты только не кипятись, государь, а не то тебя снова прострел ударит.
— Как же мне не кипятиться, коли у меня всюду подвохи! — вдруг слезливо воскликнул Державный. После кондрашки у него часто стал появляться этакий плаксивый возглас, от которого Даниле Васильевичу неизменно становилось совестно за государя.
— Думаю, ничего нет плохого в том, что мы перенесём на пару дней намеченную казнь, — сказал Василий Иванович, трогая отца за локоть. Голос его прозвучал успокоительно, и Державный перестал обидчиво хмуриться.
— На какой же день? — спросил он более мирно.
— А вот на Степана хорошо будет, — воскликнул боярин Кошкин, и видно было, что его осенило.
— Чем же хорошо, Яков Захарыч? — спросил Державный.
— А вот чем, — улыбаясь, отвечал соратник Щени по многим боям, — на Степанов день всё равно принято костры жечь жаркие, дабы Степан-пастух мог хорошенько погреться. Тогда летом скот будет и здоров, и под присмотром. Так народ наш суеверует. Вот мы к Степанову дню и пожжём еретиков, чтоб уж зря костёр не пропадал.
— Хитроумно! — рассмеялся Данила Васильевич. Правда, тотчас осёкся. Не такое уж смешное дело они обсуждали, чтобы скалиться.
— Так ведь и сегодня костры жгут, родителей согревают, — заметил молодой великий князь. — Можно было бы сейчас пожечь жидовствавших. Матушка моя, Софья Фоминична, погрелась бы.
— Близко бы не подошла к такому костру, — тихо промолвил Державный. Голос его так щемяще дрогнул, что Данила Васильевич искренне пожелал сейчас прижать болезного государя к своей груди и утешить. За полтора года после кончины деспины Софьи нисколько, видать, не затянулась рана в душе Державного. Вздохнув, Щеня сказал:
— Перед Крещеньем тоже костры зажигают.