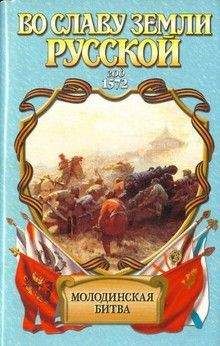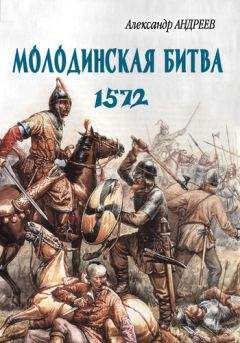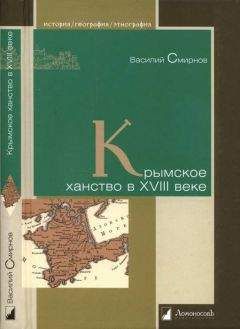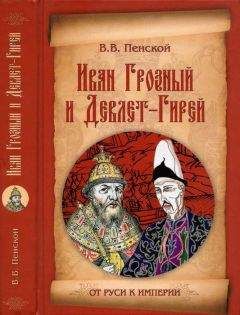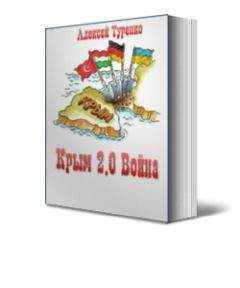С такими настроениями не встретишь во всеоружии неожиданный удар, а когда мечебитцы-русы, знавшие татарский язык, начали выкрикивать, что Девлет-Гирей разбит и бежал, бросив их на произвол судьбы, даже те, кто успел изготовиться к сече, решили, что пора спасаться и им, благо дорога на Серпухов глупыми гяурами не перекрыта, а кони под рукой и подседланы.
Вот и не случилось серьезной рукопашной схватки на Пахре, тумен, стискивая себя до предела, понесся черной тучей, взвихривая пыль, по Серпуховской дороге к Оке. Тысячам Большого полка и полка Правой руки оставалось только подстегивать бегущих в панике ворогов.
Первая засада не очень-то притормозила тумен, лишь выбила изрядно нукеров, вторая тоже была прорвана, хотя и с большими потерями для крымцев, только третья и четвертая вынудили большую часть крымцев остановиться и побросать оружие. Тех же, кто не спешился безоружно, а поскакал дальше, ждала следующая засада. Ждала смерть. Сдавшихся в плен начали вязать их же арканами, притороченными к каждому татарскому седлу.
Князь Михаил Воротынский порысил к Пахре, хотел лично поблагодарить Николку Селезня, свершившего подвиг. И едва одолев половину пути, встретил он князя Федора Шереметева. Обнялись по-братски, поздравляя друг друга с великой победой, и князь Шереметев спросил:
— Дозволь скакать к своему полку и гнать татарву?
— Тебе иная роль. Князь Одоевский идет сюда на помощь. Позвал я его на случай, если бы вышла неудача. Ты скажи, пусть скачет на Оку, сам же возьми ханский обоз под свою охрану. Его, перехваченного Опричным полком, охраняет моя малая дружина. Освободив ее, отправь ко мне. Найди и свой саадак, прошерстив ханский обоз, ему больше негде быть. Выбери ратные подарки для государя нашего Ивана Васильевича.
— Мне их везти?
— Достоин, князь, ты этой чести, но нужна ли нам с тобой царская милость за радостную весть? Мы добрую службу сослужили и царю, и отечеству, и нам это зачтется по большому счету, а не по мелочи. Хочу послать достойного из достойных из молодых. У кого впереди будущее.
У Фрола Фролова вспыхнули радостью глаза, ибо он посчитал, что кроме него князю послать к царю некого.
Вот оно — боярство! Тогда и Вельского с Малютой можно будет не ублажать.
Наивно. Разве выскользнешь из цепких рук главы Сыска и его племянника? Радость Фрола была кратковременной: потускнели его очи, когда он услышал дальнейшие слова князя Воротынского:
— Мыслю, князь Федор, послать Косьму Двужила. Много дельных советов давал он мне, да и сам действовал не только храбро, но и с разумностью. Ему сам Господь предначертал стать знатным воеводой.
— Мне он тоже пособил знатно. И словом, и делом. «Что же, князь-воевода, упускаешь ты свою выгоду!» — с досадой подумал Фрол Фролов, но утаил эту досаду глубоко в себя, и взор его, на мгновение лишь посуровев, вновь обрел обычную беспечность и довольство. Твердо решил Фрол сегодня же оповестить о решении главного воеводы Богдана Вельского, тот найдет, как этими сведениями воспользоваться.
Князю бы Воротынскому послать к царю любого из первых полковых воевод, а не безродного своего боярина, но Михаил Воротынский даже не думал о возможных подлых каверзах, он всей душой торжествовал свою победу. У него даже и мысли не могло появиться, что кому-то эта великая победа, им достигнутая с таким трудом во имя спасения России, встанет поперек горла.
Князю, когда он переправился через Пахру, показали шатер, в котором лежал под присмотром пожилого ратника, знающего, как лечить раны, Николка Селезень. Князь вошел в шатер и опустился на колени у ложа своего боярина.
— Великую службу сослужил ты не только мне, но и всей России. Государь Иван Васильевич достойно оценит твое мужество.
— Не ради милости государевой терпел я муки, — с трудом разжимая спекшиеся губы, ответил Николка Селезень, — отечества ради.
Фрол Фролов с подозрением глянул на боярина, но никто не заметил невероятного в такой обстановке взгляда.
— Грозились, что сначала руки по плечи стешут, — продолжал, делая паузы меж словами, Селезень, — да не вдруг, а постепенно. Пальцы уже почти все посекли тесаками. А чтобы кровь не хлестала, прижигали отрубы. После рук, грозились, за ноги возьмутся. Болваном, мол,
круглым останешься.
Содрогались все, кто был в шатре и слушал тихие и медленные слова боярина Селезня, а каждый из них нагляделся за свою ратную жизнь в достатке и на кровь, и на калечных, и на смерть; но то ратные раны и ратная смерть, а тут — измывательство над беззащитным.
Князь же процедил сквозь стиснутые зубы:
— Жаль, сбег Девлетка-варвар! Самолично снес бы ему голову!
«Эка самовластец, — хмыкнул про себя Фрол Фролов. — Вон куда возносит себя. Одному государю решать, как поступить с крымским ханом, окажись он в плену…>>
К шатру подскакал гонец от воеводы Хованского.
— Князь Хованский велел спросить тебя, главный воевода, гнать ли татарву за Окой?
— Гнать! Сечь, не давая пощады никому! Чтобы ни один до Степи не доскакал!
С таким же вопросом прискакал гонец от атамана Чер-кашенина. Он еще просил разрешения не возвращаться в стан под Молоди, а сразу же распустить казаков с ратной добычей по своим куреням. Они по доброй воле пришли на рать, и нет им необходимости выпяливать себя, гарцуя по московским улицам.
— Низкий поклон всем казакам от меня за службу отечеству. Поступайте, как сочтете лучшим.
Не успел ускакать гонец атамана Черкашенина, ему на смену гонцы от воевод большого огненного наряда и гуляй-города, тоже с вопросами, тоже в ожидании его, воеводского слова, — князю Воротынскому недосуг стало оставаться с героем-боярином. Поручив его Фролу Фролову, ушел князь с головой в воеводские заботы. В радостные заботы, но оттого не менее хлопотные, требующие полного напряжения мыслей и духовных сил.
Князь Михаил Воротынский не подгадывал специально, но так получилось, что Окская рать возвращалась в Москву в Рождество Пресвятой Богородицы. Торжественное колокольное разноголосье созывало христианский люд на праздничные молебны по случаю столь великого для них события. Москвичи, однако, нарядившись во все лучшее, заполняли не церкви, а улицы, хотя князь Михаил Воротынский не посылал загодя в стольный град гонца с сообщением о дне возвращения рати с битвы, город, однако же, откуда-то узнал об этом и высыпал встречать своих спасителей. Спасителей России.
Ничего подобного воевода-князь еще не видывал: Москва встречала его, Воротынского, радостнее, чем некогда царя Ивана Васильевича — юного покорителя Казани. Под копыта княжеского саврасого коня в парадной сбруе расстилали бабы шелковые платы свои, сами же, не стыдясь греха, оставались простоволосыми. Цветы изобильно летели к нему, князю, к дружинникам его, ко всем ратникам, и весь разномастный люд — от знатных до изгоев — низко ему кланялся. Священнослужители, не велев прекращать колокольный звон, тоже выходили на улицы с крестами и кадилами, чтобы благословить победителей.
Гордость за себя, за дружину свою, за соратников-соколов вольно или невольно воцарилась в душе главного воеводы, вместе с тем к гордости законной, заслуженной примешивалась непрошеная тревога, отравляя безмятежную радость. Да, все складывалось не так, как мыслил князь Михаил Воротынский. Верно, победа знатная, чего греха таить, но он — воевода, лишь с честью выполнивший царское поручение, не ему полагались почести царские, а самому государю. Так велось на Руси издревле: торжественный колокольный звон разносился по всей необъятной России в честь великих князей, в честь царей-самовластцев. Сегодня же колокола пели свою торжественную песнь в его честь, в честь служивого князя, хотя и знатности великой, но все одно — слуги царева. Это необычно, оттого и вызывало беспокойство, совершенно, казалось бы, лишнее в такой праздничной радости, было ложкой дегтя, портившей бочку меда. Отделаться от тревоги, от непрошеной тоски сердечной князь не мог. Как клещ вцепилась она в душу.
Еще более неуютно почувствовал бы себя победитель Девлет-Гирея, знай он, что колокольный звон, начавшийся по велению царя в честь славной победы еще два дня назад, волнами, как от брошенного в воду камня, покатился по Русской Земле и, к досаде Ивана Васильевича, в торжественных службах славили не только царя всей России, но и князя-воеводу Михаила Воротынского. И как чудилось Ивану Васильевичу, имя слуги его, раба его, произносилось более торжественно.
Видит Бог, Михаил Воротынский не хотел этого. Донести царю весть о победе послал он боярина Косьму Дву-жила, имея две мысли: царь на радостях может пожаловать Косьму более высоким чином, чего тот, конечно же, заслужил; но главное, посылая своего слугу, князь как бы подчеркивал, что считает победу над крымцами не своей заслугой, а заслугой самого царя, он же, воевода, раб царев, лишь выполнил его волю.