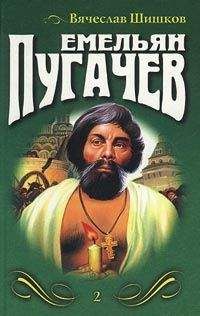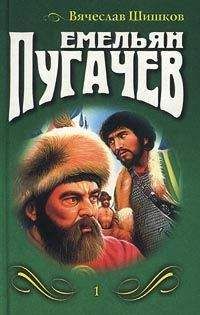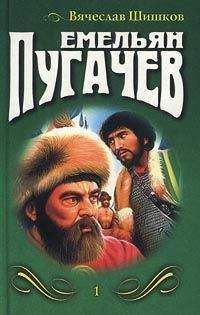Бошняк не принял это постановление и донес о том Кречетникову. Его взорвало выражение «коменданту приказать». В ответ на подобный захват власти Ладыженским, самое лучшее, что мог бы предпринять Бошняк — это немедленно арестовать Ладыженского, а может быть, по военному времени, даже и повесить, а власть взять в свои руки. Но Бошняк на подобный поступок не решился, на самом же деле, он нраву был тихого, к тому же, кроме «всечестных усов», он ничем не обладал, у Ладыженского же была не малая заручка в Петербурге и порядочное именьице под Костромой. Так ли — сяк ли, но дело с обороной продолжало оставаться в плачевном состоянии.
Если б поблизости находился главнокомандующий Панин, немедленно было бы учреждено единовластие и все сверчки разлетелись бы по своим шесткам, но Панин все еще барствовал в Москве.
Бошняк все же тужился, как находил нужным, делать свое дело; Державин немедля сообщил в Казань Потемкину о том, что много труда и хлопот положил он в борьбе с комендантом Бошняком, но что «теперь все привел в подобающий порядок». Бошняк же, чтоб сбить спесь Державину, тем временем послал ему копию полученного письма губернатора Кречетникова, в коем между прочим тот предписывал «объявить Державину, чтоб он оставил Саратов и пребывал на Иргизе, в Малыковке неподвижным».
Впоследствии, когда Пугачёв разгромил Саратов и ушел дальше, была получена Державиным от Потемкина из Казани бумага, где между прочим Потемкин писал: «К крайнему оскорблению из вашего рапорта вижу, что саратовский комендант Бошняк, забывая свой долг, не только не вспомоществует благому учреждению вашему к охранению Саратова, но и препятствует укреплять оный: того для объявите ему, что я именем ея императорского величества объявляю, что ежели он что-либо упустит к восприятию мер должных… тогда я данною мне властию от ея величества по всем строгим законам учиню над ним суд».
Эта взбалмошная попытка недалекого человека ввязываться в несвойственные административно-военные дела неподвластного ему отдаленного края лишний раз показывает, до какой степени истрепались к тому времени колеса государственного механизма. Почти повсюду наблюдалось среди ответственных чиновников отсутствие сознания долга, превышение власти, вмешательство в чужие дела.
Конечно, все эти «недочеты механизма» были на руку Пугачёвскому движению. И Петр Панин, расправляясь впоследствии с приверженцами Пугачёва, в первую голову должен был бы повесить казанского сатрапа Потемкина и ему подобных. А между тем, как мы видели, деятельность того же Потемкина была высоко оценена Екатериной: она скупила на много тысяч рублей все векселя промотавшегося картежника и препроводила их своему ставленнику в подарок, по окончании же смуты наградила его чинами, деньгами и землею с людишками.
Между тем укрепление города кое-как продолжалось. Люди, вооруженные лопатами, топорами, пилами, рыли землю, возили на тачках и телегах глину, известь, камни, мастерили деревянные рогатки из мешков с мукой, овсом, известью, складывали заграждения. Стояла жара. Водовозы ушатами развозили людям воду с Волги. Чернобровая молодая баба, напоминавшая оренбургскую золоториху, торговала вразнос пирогами, копченой рыбой и осердием. Всюду выпирали из земли обгоревшие печные трубы, валялись обглоданные огнем бревна, головешки, пепел. На огородах шалаши-убежища погорельцев. Кой-где уцелевшие церкви, у одной из них — опален купол, выбиты стекла, золоченый крест валяется поперек тропинки. На Соколовой горе степной ветродуй вздымает пыль вместе с блеклыми, преждевременно облетевшими от засухи листьями.
Работают люди по-казенному, с леностью, не на полную силу: позевывают, поплевывают, почесываются, щурятся на солнце. Люди в душе знают, что все эти укрепления ни к чему: хоть ты тут каменную крепость выстрой, «батюшка» все равно заберет.
Купцы выслали своих приказчиков. От Федора Кобякова пришло четверо.
Купец Кобяков друг-приятель казанскому купцу Крохину, в бане у которого мылся Пугачёв.
Кобяковский приказчик старик Яков Сергеич, копая землю, беззубо шамкает:
— Эх, напрасно это… Ни к чему… Одна канитель людям. Все равно Емельяну Иванычу, батюшке нашему, достанется…
— Да ты, Сергеич, сдурел? — набросились на него приказчики. — Какой же он Емельян Иваныч, когда он природный Петр Федорыч, третий ампиратор!
— Да будет вам лопотать-то!.. «Природный», «природный», — окрысился на них Сергеич и, сбросив на землю шляпу, отер рукавом выцветшей рубахи вспотевшую лысину. — Он природный и есть, только простой природы, мужичьей, наш он! От царя-косаря, от царицы-чечевицы… Вот он какой — батюшка! — не унимался Сергеич, в пустом рту его мелькали два больших желтых зуба, и бороденка была беленькая с прожелтью.
— Небылицу городишь, Яков Сергеич… Приснилось, что ли!
— Казаки сказывали!.. — бросил старик. — Намедни у хозяина по-тайности два казака ночевали, ну так вот, по их розмыслу, батюшка-то наш — Пугачёв Емельян Иваныч…
— Печалуешь ты нас, старик…
— Эх, вы, непутевые… Радоваться надо, а не кручиниться… Свой батюшка-т, заступник-то, не немецкий выродок…
Вот если бы подобные речи принес волжский ветер в уши Емельяну Пугачёву! Сначала они испугали бы «батюшку» и поразили, затем сердце его наполнилось бы радостью. Крепко был бы рад этому и Андрей Горбатов и кой-кто из Пугачёвских атаманов. Может быть, может быть… эти слова не выдуманные, они действительно впервые прозвучали на Волге. Они еще кой-где прозвучат, они впоследствии найдут свой отзвук и в Москве.
И откуда взялись они? Эх, видно, не одна в поле дороженька разнесла их по России… Сверху, что ли, натрясло их, или вместе с яблоками и всяким злаком созрели они сами по себе? Врал старый приказчик, что слышал те слова от заезжих казаков. Правда, были казаки тайком в купеческом дому, но они толковали о том, что вот-вот сам государь Петр Федорыч пожалует в Саратов. А старика-приказчика словно шилом в бок: «Нет, это не Петр Федорыч, это сам Емельян Пугачёв — мужицкий царь, как в царицыных манифестах предуказано», — подумал он.
Когда же стал он поусердней к народной молве приклоняться, то и сам опознал воочию, что и многие из простолюдинов помышляют так же, как и он.
Значит, попы долбили-долбили каждое воскресенье по церквам, вычитывая царицыны манифесты, да и додолбились: кой-кому начало влетать в голову, что, пожалуй, правильно в манифестах говорится: заступник-то народный, пожалуй, не Петр Федорыч, третий царь, а сам Емельян Пугачёв, казак простой. Впрочем, такие домыслы были у немногих — раз, два и обчелся, но все же они стали в народе самостийно возникать. Будь здрав, Емельян Пугачёв, мужицкий царь!
5
Уныние в Саратове не ослабевало. Горячий офицер Державин, чтоб взбодрить саратовцев и показать им «пример решимости», с шестью десятками донских казаков и с офицерами поскакал в Петровск, навстречу Пугачёву.
Но мы уже видели, что экспедиция эта закончилась плачевно: почти все казаки передались «злодею Емельке», а Державин ускакал от погони. В четыре часа утра 5 августа примчался он со спутниками в Саратов и объявил, что Петровск занят Пугачёвым, а донцы изменили.
Это известие повергло жителей в крайнее замешательство. Многие бросились в бегство, иные начали грузить свое имущество на баржи, чтоб спуститься подобру-поздорову вниз по Волге. Но владельцев барж было очень мало, и почти все суда были взяты у купцов правительственными учреждениями, началась спешная погрузка канцелярских дел, денег, имущества.
Но главный саратовский герой Ладыженский проявил расторопность наибольшую: он захватил судно с еще неразгруженной купеческой мукою, в первую голову погрузил не казенное, а свое личное добро, вплоть до сковородников и кочерги, 15 000 рублей казенных денег и часть дел конторы опекунства иностранных. Для погрузки же архива и казенного имущества лишь к вечеру была едва-едва отыскана «посудина». За отсутствием лошадей, все перетаскивалось на руках, и работы были окончены пред самым появлением передовых Пугачёвских отрядов в виду города. Полковник Бошняк также отправил на судно главнейшие дела и денежную казну в 52 000 рублей, поручив охранение всего этого поручику Алексееву.
Началась спешная расстановка малочисленных воинских сил. Бошняк вывел саратовский батальон за сделанный пред городом вал и окружил укрепление рогатками. Ладыженский и Державин все еще пытались склонить его идти со всеми силами навстречу Пугачёву. Бошняк их предложения не принял.
— Ежели желаете, командуйте сами, а я совершенно устраню себя. Либо подчиняйтесь мне!
— За Пугачёвым, — заявил Державин, — гонятся преследующие его отряды.
Чрез два-три дня они настигнут мятежников. Нам бы только на это время позадержать злодеев пред городом. А для сего надлежало бы накидать грудной вал из кулей муки и извести и при содействии пушек отсиживаться в нем…