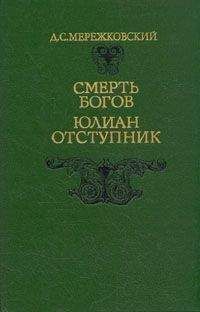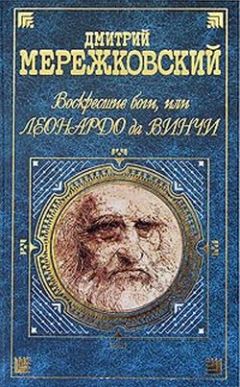Слова Леонардо были переданы Микеланджело, который принял их на свой счет, но, заглушая злобу, только пожал плечами и возразил с ядовитой усмешкой:
– Пусть мессер да Винчи, незаконный сын трактирной служанки, корчит из себя белоручку и неженку. Я – потомок древнего рода, не стыжусь моей работы, не брезгаю потом и грязью, как простой поденщик. Что же касается до преимуществ ваяния или живописи, то это спор нелепый: искусства все равны, вытекая из одного источника и стремясь к одной цели. А ежели тот, кто утверждает, будто бы живопись благороднее ваяния, столь же сведущ и в других предметах, о которых берется судить, то едва ли он смыслит в них больше, чем моя судомойка.
С лихорадочною поспешностью принялся Микеланджело за картину в зале Совета, желая догнать соперника, что, впрочем, было не трудно.
Он выбрал случай из войны Пизанской: в жаркий летний день флорентийские солдаты купаются в Арно; забили тревогу – показались враги: солдаты торопятся на берег, вылезают из воды, где усталые тела их нежились в прохладе, и, покорные долгу, натягивают потное, пыльное платье, одеваются в медные, раскаленные солнцем, брони и панцири.
Так, возражая на картину Леонардо, изобразил Микеланджело войну не как бессмысленную бойню – «самую зверскую из глупостей», но как мужественный подвиг, совершение вечного долга – борьбу героев из-за славы и величия родины.
За этим поединком Леонардо и Микеланджело следили флорентийцы с любопытством, свойственным толпе при соблазнительных зрелищах. И так как все, в чем не было политики, казалось им пресным, как блюдо без перца и соли, поспешили объявить, что Микеланджело стоит за Республику против Медичи, Леонардо – за Медичи против Республики. И спор, сделавшись понятным для всех, разгорелся с новою силою, перенесен был из домов на улицы, площади, и участие в нем приняли те, кому не было никакого дела до искусства. Произведения Леонардо и Микеланджело стали боевыми знаменами двух враждующих лагерей.
Дошло до того, что по ночам неизвестные люди стали швырять камнями в Давида. Знатные граждане обвиняли в этом народ, вожаки народа – знатных граждан, художники – учеников Перуджино, открывшего недавно мастерскую во Флоренции, а Буонарроти, в присутствии гонфалоньера, объявил, что негодяев, швырявших камнями в Давида, подкупил Леонардо. И многие этому поверили, или, по крайней мере, притворились, что верят.
Однажды, во время работы над портретом Джоконды в мастерской никого не было кроме Джованни и Салаино – когда зашла речь о Микеланджело, Леонардо сказал моне Лизе:
– Мне кажется иногда, что если бы я поговорил с ним с глазу на глаз, все объяснилось бы само собою, и не осталось бы следа от этой глупой ссоры: он понял бы, что я ему не враг и что нет человека, который бы мог полюбить его, как я…
– Полно, так ли, мессер Леонардо? Понял ли бы он? – Понял бы. – воскликнул художник, – не может такой человек не понять! Все горе в том, что он слишком робок и неуверен в себе. Мучится, ревнует и боится, потому что сам еще не знает себя. Это бред и безумие! Я сказал бы ему все, и он успокоился бы. Ему ли бояться меня? Знаете ли, мадонна, – намедни, когда я увидел его рисунок для «Купающихся воинов», я глазам своим не поверил. Никто и представить себе не может, кто он, и чем он будет. Я знаю, что он уже и теперь не только равен мне, но сильнее, да, да, я это чувствую, сильнее меня!..
Она посмотрела на него тем взором, который, казалось Джованни, отражал в себе взор Леонардо, как в зеркале, и улыбнулась тихой странной улыбкой. – Мессере, – молвила она, – помните то место в Священном Писании, где Бог говорит Илии пророку, бежавшему от нечестивого царя Ахава в пустыню, на гору Сорив: «выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы – пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра – землетрясение; но не в землетрясении Господь; после землетрясения – огонь; но не в огне Господь. После огня – веяние тихого ветра, – и там Господь». Может быть, мессер Буонарроти силен, как ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но нет у, него тишины, в которой Господь. И он это знает и ненавидит вас за то, что вы сильнее его – как тишина сильнее бури.
В часовне Бранкаччи, в заречной старой церкви Мариа дель Кармине, где были знаменитые фрески Томмазо Мазаччо – школа всех великих мастеров Италии, по ним учился некогда и Леонардо, увидел он однажды незнакомого юношу, почти мальчика, который изучал и срисовывал эти фрески. На нем был замаранный красками, старый черный камзол, белье чистое, но грубое, должно быть, домашнего изделия. Он был строен, гибок, с тонкою шеей, необычайно белою, нежною и длинною, как у малокровных девушек, с немного жеманною и слащавою прелестью продолговато-круглого, как яичко, прозрачно-бледного лица, с большими черными глазами, как у поселянок Умбрии, с которых Перуджино писал своих Мадонн, – глазами, чуждыми мысли, глубокими и пустыми, как небо.
Через некоторое время Леонардо снова встретил этого юношу в монастыре Мария Новелла, в зале Папы, где выставлен был картон Битвы при Ангиари. Он изучал и срисовывал его так же усердно, как фрески Мазаччо. Должно быть, теперь, уже зная Леонардо в лицо, юноша впился в него глазами, видимо, желая и не смея с ним заговорить.
Заметив это, Леонардо сам подошел к нему. Торопясь, волнуясь и краснея, с чуть-чуть навязчивой, но детски-невинною вкрадчивостью, молодой человек объявил ему, что считает его своим учителем, величайшим из мастеров Италии, и что Микеланджело недостоин развязать ремень обуви у творца Тайной Вечери.
Еще несколько раз встречался Леонардо с этим юношей, подолгу беседовал с ним, рассматривал его рисунки, и, чем больше узнавал его, тем больше убеждался, что это будущий великий мастер.
Чуткий и отзывчивый, как эхо, на все голоса, податливый на все влияния, как женщина, – подражал он и Перуджино, и Пийтуриккьо, у которого недавно работал в Сиенском Книгохранилище, в особенности же Леонардо. Но под этою незрелостью учитель угадывал в нем такую свежесть чувства, какой еще ни в ком никогда не встречал. Всего же больше удивляло его то, что этот мальчик проникал в глубочайшие тайны искусства и жизни как будто нечаянно, сам того не желая; побеждал величайшие трудности с легкостью, точно играя. Все ему давалось даром, как будто вовсе не было для него в художестве тех бесконечных поисков, трудов, усилий, колебаний, недоумений, которые были мукой и проклятием всей жизни Леонардо. И когда учитель говорил ему о необходимости медленного, терпеливого изучения природы, о математически точных правилах и законах живописи, юноша смотрел ему в глаза своими большими, удивленными бездумными глазами, видимо, скучая и внимательно слушая, только из уважения к учителю.
Однажды сорвалось у него слово, которое изумило, почти испугало Леонардо своей глубиною: – Я заметил, что когда пишешь, думать не надо: лучше выходит.
Как будто этот мальчик всем существом своим говорил ему, что того единства, той совершенной гармонии чувства и разума, любви и познания, которых он искал, – вовсе нет и быть не может.
И перед кроткою, безмятежною, бессмысленною ясностью его Леонардо испытывал большие сомнения, больший страх за грядущие судьбы искусства, за дело всей своей Жизни, чем перед возмущением и ненавистью Буонарроти. – Откуда ты, сын мой? – спросил он его в одно из первых свиданий. – Кто отец твой и как твое имя? – Я родом из Урбино, – ответил юноша со своею Ласковой, немного приторной улыбкой. – Отец мой – живописец Джованни Санти. Имя мое – Рафаэль.
В это время Леонардо принужден был покинуть Флоренцию по важному делу.
С незапамятных времен Республика вела войну с соседним городом Пизою – бесконечную, беспощадную, изнурительную для обоих городов.
Однажды в беседе с Макиавелли художник рассказал ему военный замысел: направить воды Арно из старого в новое русло, отвести их от Пизы в Ливурнское болото посредством каналов, дабы, отрезав осажденный город от сообщения с морем и прекратив подвоз съестных припасов, принудить к сдаче. Никколо, со свойственным ему пристрастием ко всему необычайному, пленился этим замыслом и сообщил его гонфалоньеру, отчасти убедил и увлек его своим красноречием, ловко задев самолюбие мессера Пьеро, чьей бездарности в последнее время многие приписывали все неудачи Пизанской войны; отчасти обманул, скрыв действительные издержки и трудности замысла. Когда гонфалоньер предложил его Совету Десяти, едва не подняли его на смех. Содерини обиделся, решил доказать, что у него не меньше здравого смысла, чем у кого бы то ни было, и начал действовать с таким упорством, что добился своего, благодаря усердной помощи врагов своих, которые подали голоса за предложение, казавшееся им верхом нелепости, – чтобы погубить мессера Пьеро. От Леонардо Макиавелли, до поры до времени, скрыл свои хитрости, рассчитывая на то, что впоследствии, окончательно втянув в это дело гонфалоньера, станет вертеть им, как пешкою, и достигнет всего, что им нужно.