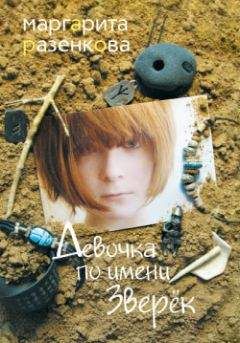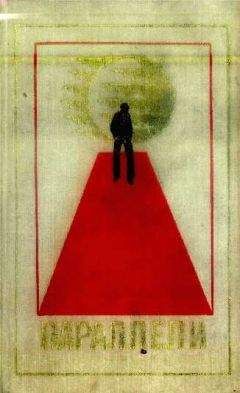– Предрассветный дождь, – еле слышно пробормотал Тэдзуми, словно пробуя на вкус произносимое. – Опадают тяжелые капли с листвы – молчит несмело утренняя птица…
Стих пришел сам собой, и Тэдзуми остался им доволен. Уметь сочинить несколько стройных, будто бы небрежно-легко начертанных строф – было достойно звания самурая. Его учили этому с детства. Конечно, самурай не обязан достигать в поэзии вершин мастерства, вовсе нет. Но хотя бы – обладать литературным вкусом, ритмом, чувствовать гармонию окружающего мира, изящно передавать поэтическим пером нюансы собственных чувств.
И поэтому отец Тэдзуми, достойный господин Накаёри-но Кицуно, нанял для сына старого буддийского монаха, весьма эрудированного, изощренного в китайской поэзии, орудовавшего пером и кистью с той же легкостью и изяществом, что мастер меча – оружием. Монаху хорошо платили за то, чтобы он привил единственному сыну господина Кицуно, его любимому ребенку, тонкий вкус и обучил его китайской классической поэзии, этике великого Кун Фу Цзы и непременно каллиграфии.
Разумеется, не это было главным в образовании Тэдзуми. Его учили многому. И вовсе не потому, что с недавних пор в среде самураев хорошее образование стало цениться едва ли не выше воинского искусства («Смени меч на кисть в мирное время, – так говорил сёгун, – и преуспеешь!»), и высокообразованные вассалы сёгуна получали повышение в чинах вне очереди. Просто отец никогда не любил неучей, какой бы стороны жизни это ни касалось, и, не доверяя ни общественным школам при буддийских храмах, ни даже частным конфуцианским, дал детям достаточно строгое домашнее образование и воспитание, изобилующее жесткими регламентациями для всех, а для Тэдзуми – еще и испытаниями и проверками храбрости и решимости. А уж в фехтовании он наставлял сына сам. Несмотря на преклонные года, господин Кицуно оставался изрядным фехтовальщиком. Его меч, старинное оружие, послужил роду Накаёри немало.
Тэдзуми протянул руку и потрогал меч, лежащий у него под боком, в траве. Это было другое оружие. Хорошее, привычное, но… другое: новый меч, подаренный ему отцом специально для походов в Эдо, столицу сёгуната. А старинный меч-реликвия занимал теперь достойное место – в камидзе, священном углу дома.
Немного приподнятое углубление в стене, камидза хранила в своем лоне не только этот достопочтенный меч их рода, но и другие священные реликвии поклонения предкам: древние доспехи, свитки с таинственными письменами (Тэдзуми надеялся, что не за горами тот прекрасный возвышенный момент, когда отец наконец сочтет сына достойным прочесть их!), а также плат, пропитанный кровью одного их знаменитого пращура.
Тэдзуми опять потрогал свой меч. Самый обычный меч с самой обычной рукоятью – кожа ската, продубленная и шершавая, с черной шелковой оплеткой, изящно служившей и единственным украшением рукояти, и защитой для ладони. Меч был прост, но уже дорог владельцу: Тэдзуми получил его, когда проходил обряд посвящения в мужчины. По поводу простоты меча отец напутствовал сына: «Самурай может и должен довольствоваться своими вещами до тех пор, пока они не придут в полную негодность!» Впрочем, добавил, выждав, пока Тэдзуми поднесет врученный ему меч ко лбу и с почтением положит перед собой на татами: «Наш родовой меч также принадлежит тебе. Пройдет время, ты наберешься мудрости и опыта, и тогда сам поймешь, что настал момент вложить его рукоять в свою ладонь!»
Отец был опытным воином, несгибаемо мужественным в бедах и бесконечно щедрым душой в радостях. Судьба сполна одарила его и ликованием побед, и горечью утрат. С годами и утратами пришли мудрость и дальновидность. Тэдзуми всегда верил отцу. Несмотря на то, что под старость отец пристрастился к саке, доверие к нему Тэдзуми нисколько не пострадало. Он старался не замечать ни этого пагубного отцовского пристрастия, ни ворчания матери, ни почти открытых шуточек старших сестер.
Первые их насмешки начались, когда Тэдзуми не было и десяти лет, а он сам вдруг стал подмечать в отце некоторые странности. Но когда Тэдзуми случайно подслушал, как сестры насмешничают, то, белый от гнева, ворвался к ним в комнату, сжимая кулаки. Топнув ногой, он впервые прикрикнул на них как мужчина. Сестры несказанно удивились, но смолчали, почувствовав-почуяв в младшем брате пробудившуюся (фамильную!) жесткую мужскую волю. Они даже потупились, пристыженные, а он важно удалился, со стуком сдвинув перед их носом скользящие створки дверей.
С годами Тэдзуми привык не обращать внимания на слабость отца. Да не так уж часто это и случалось, а если что и случалось, то он прикрывал отца, как мог. Однажды господин Кицуно так напился, что уснул и во сне свалился с веранды на землю. Тэдзуми вознес благодарение Будде, что сестер, в ту пору уже замужних (кроме самой младшей, проживающей с матерью в Эдо), не было в отеческом доме. Он сел рядом с отцом на землю, расстелив пару циновок и разложив на них веер, пару кистей и свитки, – и было похоже, что господин Кицуно просто задремал, утомившись в конце жаркого дня. И все сидел, не поднимая головы от свитков, чтобы досужие соседи не подумали ничего дурного.
Когда же отец проснулся и всё понял, то он ничего не сказал, лишь с благодарностью посмотрел на сына. А тот с почтением попросил отца не трогать саке хотя бы в его отсутствие. Отец кивнул, не проронив ни слова. Ведь отсутствовать Тэдзуми приходилось, и подолгу. Что поделаешь, так уже давно повелось, с тех пор как в долгих междоусобных войнах победил клан Токугава.
Сёгун-победитель Токугава Иэясу быстро понял, что в среде даймё (крупных землевладельцев), да и в среде его собственных прямых вассалов настроение преданности весьма зыбко! И вероятно появление серьезной оппозиции: не все его самураи, даже из числа самых преданных, приняли участие в решающей битве – при Сэкигахаре. И сёгун стал открыто различать тех, кто был с ним до Сэкигахары, и тех, кто принял его сторону лишь после победы. Последних, казавшихся сёгуну ненадежными, требовалось ослабить и обязательно держать под контролем.
Господин Кицуно из рода Накаёри хоть и был храбр и честен в битвах за объединение страны под флагом Токугава, в битве при Сэкигахаре, по мнению сёгуната, не проявил максимального рвения. И поощрения не заслуживал. Но это настроение при дворе сёгуна отец почувствовал прежде, чем к нему могли применить опасно-строгие меры, и увез семью подальше от столицы, не потеряв при этом ни доходов от своих земель, ни чести. Но если он и не ждал теперь прямого приказа совершить харакири, то конфискации земель все же опасался. Формальный повод для этого в то время был – отсутствие наследника.
Господин Накаёри-но Кицуно уже подумывал, не усыновить ли мальчика из какого-нибудь незнатного и бедного рода, чтобы в будущем женить его на одной из своих многочисленных дочерей и тем сохранить фамилию. Чтобы решиться на этот шаг, он предпринял паломничество по святым местам, оставив дома четырех дочерей и жену, беременную, как он в отчаянии полагал, пятой.
Всевышний ли почтил своим благословением их род, звезды ли расположились удачным образом, но к его возвращению мать семейства благополучно разрешилась от бремени очередным младенцем – мальчиком. Наконец мальчиком! В день своего возвращения, спустя сутки после рождения Тэдзуми, господин Кицуно поднял самый большой вымпел над крышей своего дома и закатил такой пир, какого соседи не могли и упомнить.
– Твой вымпел будет виден из Эдо, досточтимый сосед! – посмеивались одни.
– Благословение Будды с тобой и твоим родом! – поздравляли другие.
Так родился Накаёри-но Тэдзуми.
Отец был безмерно счастлив его рождению и – рад тому, что сохранятся фамильные земли.
Но сёгунат не собирался выпускать своих вассалов из-под контроля! Каждый из них, по заведенному Токугава правилу, пока еще неписаному, обязан был проводить полгода в столице, полгода – дома, в поместье. Оставляя семью в Эдо – заложниками! Такие посменные путешествия стоили немалых денег, и род Накаёри год за годом неотвратимо беднел, что также было на руку бакуфу, правительству сёгуна: Токугава Иэясу по-прежнему желал ослабления вассалов, не проявлявших требуемой горячей преданности.
– Отец, – взволнованно спрашивал Тэдзуми, – разве вы не были отважны в битвах? Разве вы уронили честь самурая? Разве ваша готовность отдать жизнь за своего господина подверглась сомнению?!
– Нет, Тэдзуми, нет. Успокойся. Я ни разу не уронил чести ни в битве, ни в мирное время. – Он грустно улыбнулся и добавил: – Уронил лишь свое тело с веранды, когда саке ударило в голову.
– В чем же подозревают вас? Чего ждут?
– Чего ждут?.. – Отец вздохнул. – Ждут глупой смерти. Да-да. Ты знаешь, что моим господином до Токугава был прежний сёгун, Хидэёси. После его смерти я должен был, как положено и дозволено самураю моего ранга, совершить харакири. Но не получил разрешения от прямого наследника своего бывшего господина. Принять же «собачью смерть», то есть совершить харакири без дозволения, было бы не честью, а неумной горячностью не знающего законов Пути воина. Теперь у меня есть враги, которые ждут, чтобы я, потеряв голову из-за их глупых попреков (я-де не способен на ритуальное самоубийство!), совершил харакири. Теперь это было бы тем более глупо: я давно уже присягнул Токугава Иэясу. А подозревают… ну, скажем, в своеволии: людей себе на уме, как я и как ты, люди не любят.