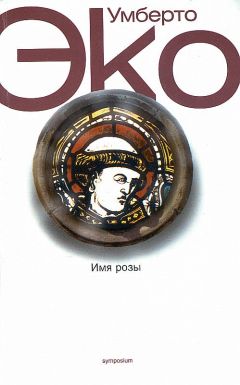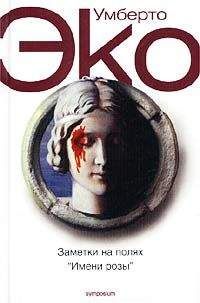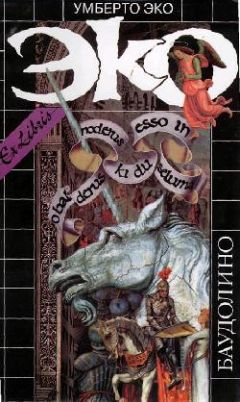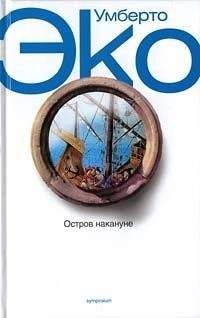«Аминь!» – откликнулись все.
Один за другим, без звука, без шепота расходились монахи по своим обиталищам. Без всякого желания говорить друг с другом проследовали восвояси и минориты, и посланники папы. Все жаждали уединения и отдыха. На сердце у меня было тяжело.
«Спать, спать, Адсон, – приговаривал Вильгельм, взбираясь по ступеням странноприимного дома. – Сегодняшний вечер не подходит для прогулок. Мало ли что взбредет в голову Бернарду. Вдруг он решит приблизить конец света и начать с наших с тобой мощей… Завтра надо обязательно выбраться к полунощнице, потому что Михаил и прочие минориты уезжают сразу после нее».
«А Бернард… и заключенные?» – спросил я еле слышно.
«Здесь Бернарду делать больше нечего. Он захочет попасть в Авиньон прежде Михаила и так все устроить, чтоб сразу после его приезда развернулся судебный процесс над келарем – миноритом, еретиком и убийцей. Костер Ремигия будет в виде праздничного факела озарять первую встречу Михаила и папы».
«А что будет с Сальватором… и с девушкой?»
«Сальватора повезут вместе с келарем. Очевидно, он предполагается как свидетель на процессе. Может быть, за эту услугу Бернард сохранит ему жизнь. Может быть, даст ему бежать и убьет при попытке к бегству. Хотя кто знает. Может, он его и впрямь отпустит. Такие, как Сальватор, таких, как Бернард, интересуют меньше всего. Так что по-разному может получиться. Не исключено, что он кончит свой век живорезом где-нибудь в лангедокских лесах…»
«А девушка?»
«Я же сказал тебе. Горелое мясо. Но она сгорит раньше всех, не доезжая Авиньона, на здешнем побережье, для острастки какого-нибудь поселения катаров. Я слышал, что Бернард договорился встретиться со своим сподвижником Жаком Фурнье… Запомни это имя, пока что он жжет альбигойцев{*}, но метит явно выше. Для такой встречи красотка-ведьма, которую можно со вкусом спалить, – как раз то, что надо. Это повысит и самоуважение и славу обоих».
«Но разве нельзя что-нибудь сделать? – вскричал я. – Хоть что-нибудь, чтобы их спасти? Аббат не вступится?»
«За кого? За келаря, сознавшегося убийцу? За этого ничтожного Сальватора? Или ты о девчонке думаешь?»
«А если даже и так? – заорал я из последних сил. – По совести говоря, из всех трех она единственная, кто неповинен ни сном, ни духом. Вы ведь знаете, что она не ведьма!»
«И ты веришь, что Аббат, после всего, что тут было, поставит под удар те остатки авторитета, которыми он еще пользуется? Ради какой-то ведьмы?»
«Но взял же он на себя ответственность за побег Убертина!»
«Убертин был монах его аббатства и ни в чем не обвинялся. И вообще, что за чепуху ты несешь. Убертин важная особа. Бернард мог убрать его только исподтишка».
«Значит, правду говорил келарь, и простецы всегда платят за всех, даже за тех, кто на словах заступается за них, даже за таких, как Убертин с Михаилом, которые своими разглагольствованиями о покаянии поднимают простецов на мятеж!» – Я совсем не владел собой, я уже не соображал, что девица не была несчастным полубратом, сбитым с толку заклинаниями Убертина. Но все равно она была крестьянка и платила за игры, которые ее не касались.
«Да, так все и обстоит, – печально отвечал на мои речи Вильгельм. – Хотя если ты жаждешь справедливости… Могу тебя успокоить. Безусловно, наступит такой день, когда крупные псы, папа с императором, замирятся и по этому случаю растопчут всю мелкую песью братию, которая пока что грызется, услужая им. Тогда и с Михаилом, и с Убертином обойдутся так же, как сейчас с твоей девчонкой».
Теперь я могу сказать, что Вильгельм, произнося это, пророчествовал, вернее, философствовал на основании принципов натуральной логики. Но в ту минуту ни пророчества его, ни силлогизмы нисколько меня не утешили. Я был совершенно раздавлен сознанием собственной вины, ибо выходило, что девушка на костре будет искупать тот самый грех, в котором я участвовал наравне с нею.
Потеряв всякий стыд, я разразился рыданиями и метнулся к себе в келью, где в течение целой ночи кусал тюфяк и выл в полном бессилии, ибо судьба отказала мне даже в том, о чем читал я в рыцарских романах, украдкой, с ровесниками, у себя дома, в Мельке, – в праве плакать и жаловаться, поминая имя возлюбленной.
Единственная земная любовь всей моей жизни не оставила мне – я никогда не узнал – имени.
где князи восседают, а Малахия валится на землю
Мы сошли к полунощнице. Этот час окончания ночи, когда уже, можно сказать, нарождается новый неотвратимый день, был все еще полон тумана. Пересекая церковный двор, я чувствовал, как сырость проникает в тело до самых костей. Вот расплата за неспокойные сны! Хотя в церкви было тоже холодно, я вздохнул с облегчением, опускаясь на колени в тени ее вольт, в укрытии от стихий, в островке тепла, исходившего от других тел и от жаркой молитвы.
Пение псалмов только началось, когда Вильгельм указал мне на пустое седалище в ряду напротив нашего, между Хорхе и Пацификом Тиволийским. Это было место Малахии, который всегда усаживался сбоку от слепого. И не мы единственные обратили внимание на его отсутствие. С одной стороны, туда же был устремлен беспокойный взгляд Аббата, который, конечно, уже научился понимать, сколь мрачным предзнаменованием может оказаться такая пустующая скамья. По другую сторону находился старый Хорхе, как я заметил – тоже охваченный сильным волнением. Лицо старика, обычно непроницаемое из-за его белых потухших очей, было затенено на три четверти. Но нервность и тревогу выдавали руки. То и дело рука его тянулась вбок, к месту соседа, и отдергивалась, удостоверясь, что место это пустует. Он повторял и повторял свое движение через ровные промежутки времени, как будто надеялся, что отсутствующий с минуты на минуту явится. Но и опасался, что он может не явиться уже никогда.
«Где же это библиотекарь?» – прошептал я Вильгельму.
«Малахия, – отвечал Вильгельм, – оставался единственным держателем той самой книги. Если не он совершил предыдущие убийства, тогда может статься, что он и не знает об опасностях, скрытых в ней…»
Добавить было нечего. Только ждать. И все выжидали: мы, Аббат, продолжавший сверлить глазами пустую скамейку, Хорхе, продолжавший водить рукой в темной пустоте.
Когда литургия кончилась. Аббат напомнил монахам и послушникам, что следует готовиться к большой рождественской обедне. И посему, как принято издавна, время, остающееся до хвалитных, будет отдано совершенствованию хорового пения некоторых песней, положенных к рождеству. Хотя надо сказать, что эта семья богомольцев и без того в момент служения сливалась в некое единое существо, в единый голос, и чувствовалось, что в обращении долгих и долгих лет создана такая общность, когда как будто одна-единственная душа исторгается в пении.
Аббат начал. Запели «Sederunt»:
Sederunt principes
Et adversus me
Loquebantur, iniqui.
Persecuti sunt me.
Adjuva me, Domine,
Deus meus salvum me
Fac propter magnam misericordiam tuam[90].
Я подумал, что неспроста Аббат выбрал именно этот градуал{*} именно для этой ночи, в которую на богослужении среди нас в последний раз присутствовали посланники князей мира, чтоб заставить всех вспомнить, как в течение множества столетий наш орден был способен противостоять нападениям любых властителей благодаря своим исключительным взаимоотношениям со Всевышним, с Господом ополчений. И действительно от начала песни веяло ощущением необыкновенной мощи.
Первый слог, Se, исходил от плавного торжественного хора десятков и десятков голосов, и басовитый звук заполнял собою нефы и нависал над нашими головами и все-таки, казалось, исторгался из самого сердца земли. И он не пресекался и громыхал, даже когда другие голоса начали вить поверх этой низкой долгозвучащей ноты свою цепочку вокализмов и мелизмов, он гудел – зык земной коры, теллурический вой – и господствовал над звучанием, и не прерывался во все то время, которое потребовалось читчику, обладателю мерного, упадающего голоса, чтобы двенадцать раз повторить «Аве Мария». И как бы освободившиеся от всяческой боязни благодаря той вере, которою настойчивый первый слог, аллегория вековечного постоянства, питал и поддерживал молящихся, иные голоса (в большинстве – голоса послушников) на этом плотном, каменном основании принялись возводить свои столбики и шпили, зубчики, шипы, гребни нотных «пневм», остреньких и тающих. И покуда мое сердце исходило наслаждением, упадая и летя в соответствии с климаком или порректом, торкулом или саликом, эти голоса, казалось, свидетельствовали, что души (души поющих и внимающих пению), не в силах выдержать преизобилия чувства, разрываются на части, перерождаясь в гибчайшую мелодию, которая переплавляет счастье, горечь, хвалу и любовь в истому нежнейшей многозвучности. В это время ожесточенное упорство хтонических басов, как ни ярилось, не могло возыметь силы ужасной угрозы, как будто пугающее присутствие неприятелей, тех властелинов, которые собрались преследовать народ Господен, не в состоянии было осуществиться. Все это длилось и тянулось к наивысшему мигу, когда нептунический рык впрямую захлестнул звенящею сольною нотой и обрушился, или хотя бы сокрушился, нарушился силой ликующего Аллилуйя, исходившего от тех, кто ему противоречил, – и затем покорился, смирился и влился в мощнейший, совершеннейший аккорд, в опрокинутую пневму.