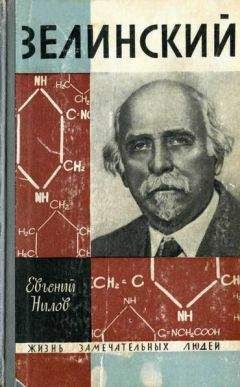— Счастливо Фесею! — ответили голоса. — Счастливо Афинам! Счастливо Матери-Земле!
В малом перистиле дворца царя Эрехфея женской челяди прибывало все больше и больше: одна другой передавала важное известие, что фракийские гости, продавшие царю груз строевого леса с Пангейских гор, получили разрешение показать и, если найдутся покупательницы, продать ткани и вышивки своих жен и дочерей. Узнала об этом и молодая няня маленького царевича, землячка продавцов, которую поэтому во дворце звали просто Фраттой.
Сердце в ней тревожно забилось; она встала и, взяв ребенка за руку, направилась к перистилю.
— Куда ты? — угрюмо окликнула ее Евринома, другая няня, ходившая за младшей сестрой царевича, Креусой. Она была старше Фратты, но и, помимо того, как гречанка, чувствовала себя неизмеримо выше ее.
— Вышивки смотреть… А ты не пойдешь?
Евринома только пожала плечами.
— Тоже нашла кого удивить — меня, ученицу покойной царицы Праксифеи. Выше ее только сама Паллада была — слава ей, градодержице! Да и ты бы лучше не ходила — и то много путаешься с этими усачами в штанах.
Фратте, в сущности, было приятно, что Евринома с ней не пошла. Все не выпуская руки ребенка, она вошла в перистиль, где торговля была в полном разгаре. Споры, шуточки, смех; ключница Никострата старалась поддержать благочиние, но порядок был уже не тот, что при покойной царице.
— Сколько тебе за эту накидку? — торговалась молодая рабыня.
— Полмины.
— Бери тридцать драхм.
— Разве если себя дашь в придачу.
Грубая шутка на ломаном греческом языке вызвала всеобщий смех. Пользуясь случаем, другой торговец шепнул вошедшей Фратте по-фракийски:
— Сегодня, к часу отпряжки быков! Поняла, Каракста?
— Поняла. А ты, Адосф, не обманешь?
— Не бойся. Только без мальчика не приходи.
— Уж, конечно, его не оставлю.
— Ну, смотри же. А теперь, красавицы, — громко продолжал он по-гречески, — я покажу вам такой товар, какого вы еще не видали. Душу заложите, а увезти домой не дадите.
Много серебряных совушек перешло в тот вечер в мошны фракийцев; перешли бы, пожалуй, и все, если бы прощальные лучи с Эгалея не возвестили торгующимся о необходимости прервать разговор.
— Завтра придете? — спросила одна, особенно ненасытная.
— Придем, красавицы, придем, — отвечал усач. — Только совушек побольше приготовьте.
И они принялись укладывать в короба непроданный товар.
А там, в светлице, Евринома баюкала маленькую Креусу. Та плакала:
— Братца хочу! Где братец?
Не плачь, моя сиротка, братец придет, — и она продолжала напевать свою песенку:
Будешь царскою женой
И царицыной снохой.
Где ты ножкой ступишь — глядь,
Станут розы расцветать…
Но девочка все не хотела успокоиться, все плакала:
— Братца хочу! Где братец?
— Няня, здесь так страшно кругом. Все вода и вода, и ничего, кроме воды, не видно.
— Помолись Нереидам, мой родной, и страх пройдет.
— А как им надо молиться?
— Подними ручки так, как ты всегда молишься.
— Так, как я молюсь нашей заступнице, деве Палладе?
— Так, мой дорогой, только ручки к морю протяни. И говори: «Нереиды могучие, дайте нам счастливое плавание».
— Нереиды могучие, дайте нам счастливое плавание! Няня, а где они, эти Нереиды?
— Там, дитя мое, в этих голубых волнах. Только мы их не видим.
— Нет, няня, я их вижу. Там вижу — и там — и там. Много, много Нереид. И такие красивые — совсем как ты.
— Что ты, что ты, родной, нельзя меня, смертную, сравнивать с богинями: они обидятся.
— А они разве злые?
— Нет, они только на злых гневаются, а с добрыми всегда добрые, и спасают их от бурь и утесов. И наш корабль давно бы погиб, если бы они не были добры к нам.
— Здесь, значит, все добрые? Няня смолчала. Она подумала, что если бы то, что она сказала, было правдой, то их корабль давно бы лежал на дне морском.
— И тот дядя, который тебя давеча целовал, тоже добрый?
Няня смолчала и покраснела. — Няня, а куда мы едем?
— К твоей тете, мой прекрасный.
— К какой тете?
— Ты разве не слышал о твоей тете Прокне, сестре твоего отца? И о другой твоей тете Филомеле?
Лицо мальчика приняло вдруг испуганное выражение.
— Слышал, няня. Слышал, как сестрицына няня о них говорила с Никостратой. Только она что-то нехорошее говорила, и Никострата заплакала. Няня, скажи, как это было?
— А было то, что твоя тетя Прокна вышла замуж за Терея, царя той страны, куда мы едем.
— А как он выглядел, этот Терей?
— Он выглядел, как этот дядя, который… который с нами едет.
— Он тоже был в штанах? И с такими же усами, такими длинными и смешными?
Адосф как раз проходил мимо; услышав слова ребенка, он недовольно тряхнул головой и что-то сердито пробормотал на своем языке.
— И тоже был такой сердитый? — Нет, мой милый, но ты не смейся над этим дядей: он этого не любит.
— Ты мне про тетю Прокну рассказывай. Терей ее, значит, увез туда, далеко?
— Да, увез.
— А дальше что?
— А дальше — твоя тетя Прокна жила с ним счастливо, и родился у них маленький сыночек, Итий.
— Няня, а я и не знал, что у меня есть братец. Я думал, у меня только сестрица Креуса…
Ребенку вдруг взгрустнулось:
— Хочу к сестрице!.. Где сестрица?
— Не грусти, родной, мы ведь к братцу едем. Ну вот, жила она, жила — твоя тетя, и взгрустнулось ей тоже по сестре, вот как тебе теперь. И говорит она мужу: «Милый мой муж, привези мне мою сестрицу Филомелу». И поехал Терей опять к нам в Афины, и взял с собой твою тетю Филомелу, и повез ее к себе…
— А дальше что?
— А дальше… дальше уже нехорошо. Он обидел твою тетю Филомелу. Ты этого теперь не поймешь, родной мой, а когда будешь большой — поймешь.
— Он был сердитый?
Адосф опять прошел мимо; при виде мальчика он сдвинул брови.
— Такой же сердитый, как и этот дядя?
Адосф услышал эти слова и больно дернул ребенка за ухо. Тот расплакался.
— Няня, как он смеет меня обижать!
Фратта сказала обидчику несколько слов на своем языке, но он на нее прикрикнул. Тогда и она залилась слезами и беспомощно прижала ребенка к своей груди.
— Что я сделала, боги, что я сделала!
Смолистый аромат сосновой рощи, растворенный в зное весеннего дня, тихо расплывался в вечернем ветерке. Солнце спускалось на синий хребет Пангейских гор, освещая своими косыми лучами исполинский деревянный кумир дикой богини, потрясавшей двумя копьями и упиравшейся правым коленом в спину поверженной лани. Под ним сидел не менее дикого вида мужчина в волчьей шапке, из которой грозно торчала пара рогов; он обращался с короткими, отрывистыми речами к кучке других мужчин, среди которых был и Адосф. Поодаль молча сидела Фратта с ребенком.
Ребенок сначала с любопытством присматривался то к кумиру дикой богини, то к диким людям. Что они делают? У рогатого лежали на коленях какие-то деревянные палочки; после ответов Адосфа он то и дело брал в руки ту или другую из них и делал на ней какие-то зазубрины. Свою работу он обильно запивал вином, в чем ему, впрочем, подражали и все остальные мужчины. Положительно, это становилось скучным.
Чу… что это зазвучало в кустах? Пение соловья. Совсем как в Афинах, в Колонской роще. Но только гораздо ближе; он ясно различает и самую певицу. Она порхает с ветки на ветку и смотрит на него так дружелюбно своими умными глазками. Так бы, казалось, и схватил ее. Нет, в руки она не дается, но и не отлетает далеко, и все поет, все поет, так сладко, так ласково. Эх, пташка божья, понять бы, что ты мне хочешь сказать!
Вот вспорхнула на верхнюю веточку и точно кого-то зовет. И подлинно, кто-то прилетает. Такой смешной. Бурый, с черно-белыми крыльями и огромным хохолком. Прилетел и говорит: «Уд-уд! Уд-уд!» Это значит, вероятно: «Я здесь; что прикажешь?» И видно, певичка ему что-то приказала: удод опять улетел. И опять раздается на всю рощу соловьиная песнь — ласковая, сладкая — и такая жалобная, такая жалобная. Так бы и заплакал.
Чу… какой-то клекот доносится с высоты, пара огромных крыльев заслонила солнце. Знаю: это — коршун; мы с отцом видели такого на Ликабетте. Милая, спасайся! Но нет, она и не думает спасаться. Коршун, спустившись, уселся на верхушке сосны и оттуда смотрит на ребенка; страшно! Но соловей заливается пуще прежнего, и его песня разгоняет страх.
«Киккабау! Киккабау!»
А, знаю: это старая подруга с Акрополя, наша милая сова, птица Афины. Теперь уже совсем не страшно. Вот она сидит на нижнем толстом суку сосны. Сидит, смотрит и точно улыбается своим круглым лицом. И даже та пичужка ее не боится: прыгнула ей прямо на голову и стала чистить свой клюв об ее перья. Это значит, вероятно: здравствуй!