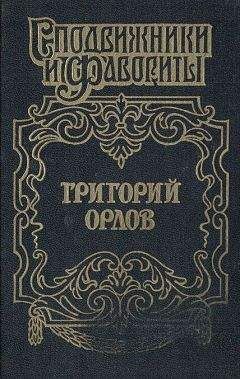— Я посадил ее на престол, так неужели же мне унижаться перед ней? — восклицал он. — Дрожать должна она передо мной: Екатерина отлично знает, что находится в моих руках. Я поставил клеймо на ее любовнике, так что он не решается показываться на свет Божий. Оба они не осмелятся больше идти наперекор мне!
После таких речей Григорий Григорьевич стремительно выбегал, чтобы не слышать слов брата, и чаще стал прибегать к своему любимому напитку — замороженному шампанскому и рому, в котором он находил забвение от томившего его беспокойства, и засыпал поздней ночью на несколько часов.
Пойманный Пугачев был наконец доставлен в Москву генералом Павлом Потемкиным и заключен там под строгую охрану.
Императрица хотела совершенно забыть о восстании, после того как оно было подавлено. Его главный виновник не должен был быть ни предметом сострадания, ни любопытства, но во всяком случае она желала знать результаты расследования всего дела. Последнее было поручено военному министру графу Чернышеву и князю Григорию Григорьевичу Орлову, которые отправились в Москву.
Князь Орлов принял это поручение с особенной радостью: он усматривал в своем назначении признак незыблемости его положения. Он поделился своим мнением с братом Алексеем, но последний только озабоченно покачал при его словах головой.
Обо всех своих распоряжениях государыня сообщила Потемкину, и тот, вполне одобрив принятые меры, сказал:
— Дело это важное, точно, надо везти в Москву. Бунтовщик, дерзнувший посягнуть на престол нашей милостивой повелительницы, намеревался дойти до Москвы, пусть не дошел, а привезли в кандалах — в ней он и должен получить следуемое по закону наказание. Но перед этим он обязан сказать всю правду. Как ни опытны в государственных делах граф Чернышев и князь Орлов, но дело сыска и допроса — особое дело, требующее исключительных знаний и привычки. Не мало тяжких преступников побывало в казематах Петропавловской крепости, не раз ее коменданту приходилось участвовать на допросах; и вот для того, чтобы пролить полный свет на все злосчастные и ужасные проступки этого дерзкого самозванца, я позволил бы себе посоветовать вам, ваше императорское величество, приказать и коменданту крепости отправиться в Москву. При таких сложных обстоятельствах ни один опытный человек не будет лишним.
— Ты прав, Григорий Александрович. Я принимаю твой совет, необходимо добиться полной правды.
Таким образом, к двум сановникам, отправившимся по повелению государыни в Москву, присоединился и комендант Петропавловской крепости.
Однако Потемкин, который в появлении Пугачева подозревал руку Орлова и до которого дошли слухи о таинственном монахе, побывавшем в крепости в день того незабвенного парада, положившего начало благоволения к нему императрицы, не ограничился этой первой частью своего плана. Имея в своем распоряжении опытных шпиков, следивших за каждым шагом Орлова, он выбрал одного из них и направил в Москву с поручением проследить за допросом Пугачева и сообщить ему все подробности. Малый оказался очень ловким и, не жалея денег, которые ему в изобилии дал Потемкин, сумел пристроиться за дверями того помещения, в котором происходил допрос, и таким образом мог слышать его во всех подробностях.
Посередине комнаты, которая была отведена для допроса и перед входом в которую стояла под ружьем усиленная стража, находился стол, весь заваленный исписанными бумагами и документами, за ним сидел главный прокурор верховного суда, назначенный вести протокол заседания. Две боковые двери в соседние комнаты были завешены плотными сборчатыми портьерами. Князь Орлов и граф Чернышев заняли приготовленные для них кресла, и немедленно вслед за тем в комнату ввели под сильным конвоем Пугачева. Солдаты, с заряженными ружьями и примкнутыми штыками, тотчас же покинули зал, ожидая у самых дверей новых приказаний.
Пугачеву было разрешено сесть на деревянную скамейку, находившуюся на некотором расстоянии от стола. Вид его был ужасен и вызывал чувство сострадания. На нем был толстый армяк, его руки и ноги сковывали железные цепи, концы которых были прикреплены к железному кольцу на шее. Лицо, на которое свешивались коротко остриженные волосы, было землистого цвета, искаженное физическими и душевными страданиями, но черты выражали тупое равнодушие. Никто не мог бы узнать в этом немощном, жалком человеке гордого вождя, который еще так недавно управлял сотнями тысяч людей и украшал себя императорской короной.
Он бросил исподлобья робкий взгляд на сидевших сановников, и горькая улыбка мелькнула на его устах, когда он увидел на них голубую андреевскую ленту, еще так недавно украшавшую его грудь; затем он сел на указанное место, поник головой, и под тяжестью оков его руки бессильно опустились на колени.
Прокурор верховного суда начал допрос; он обвиняя подсудимого в преступном вооруженном восстании против своей императрицы, в убийстве императорских генералов и солдат, попавших к нему в плен, и, наконец, в святотатственном злоупотреблении царским именем и знаками царского достоинства. После каждого обвинения Пугачева спрашивали, признается ли он в приписываемых ему преступлениях.
Пугачев отвечал на все вопросы едва слышным «да», а порою ограничивался легким кивком головы. Только после вопроса, не было ли у него сообщников в преступном замысле, он выпрямился; старая задорная сила блеснула в его глазах, и он громким голосом ответил:
— Все те храбрецы, которые последовали за мной, являются моими сообщниками, но, когда я начинал свое дело, они не принимали в нем никакого участия, так как веровали в меня и следовали за мной в убеждении, что служат правому делу и освобождают отечество от еретического преступного и незаконного правления!
Прокурор записал ответ подсудимого и продолжал приподнятым тоном свой допрос:
— Самым тяжелым преступлением, которое ты совершил, Емельян Пугачев, является твоя наглая, богохульская, злонамеренная ложь, что ты император Петр Федорович, прах которого уже давно покоится в Александро–Невской лавре, и супруг нашей милостью Божьей императрицы Екатерины Алексеевны.
— Я верил в это, — звеня цепями, возразил Пугачев и как бы в клятве положил руки на сердце.
— И ты до сих пор веришь?
— Не знаю, — с горечью и с болью возразил Пугачев. — Я не знаю, есть ли на свете правда, сотворил ли меня Бог для того, чтобы жить и страдать, существуют ли Небо и ад, где я опять встречу ту, которую я на земле любил и чье верное сердце пронзила моя рука, чтобы избавить ее от позора и бесчестия, но я знаю, что если имеется ад, то из него вышел дьявол, который вселил в мою душу ужасную мысль, что я живу двойной жизнью и что во мне ожил опять император Петр Федорович.
Как надломленный, он упал на скамейку, из его тяжело дышавшей груди вырвался тихий стон.
— А кто же был тот, кто навеял тебе эти мысли? — спросил прокурор. — Если правда все то, что ты говоришь, то он является твоим настоящим, единственным сообщником, еще больше, чем ты, виновным во всех преступлениях, которые ты совершил в безумном преступном ослеплении.
— То был монах, — продолжал Пугачев. — Мог ли я не верить его словам, если считал его осененным Духом Святым, когда он посетил меня в Петропавловской крепости, куда меня заключили в день смотра после возвращения из турецкого похода.
— В крепости? — спросил прокурор, тогда как Орлов, склонившись над столом, поспешно делал заметки. — Я должен теперь спросить вас, господин комендант, был ли Пугачев в крепости и кто был тот монах, которому вы разрешили свидание с подсудимым?
— Да, мне было приказано арестовать казака, очень похожего на этого Емельяна Пугачева; он бесновался как безумный, когда его заперли в каземат, но вдруг успокоился, когда к нему был впущен монах. Кто был последний, я не знаю, — с дрожью в голосе ответил комендант, — его лицо было скрыто под монашеским облачением.
— Почему же в таком случае вы позволили ему видеться с заключенным? — спросил дальше прокурор.
— Я исполнял свои обязанности, — ответил комендант. — Тот монах принес мне приказ, разрешавший ему доступ к заключенному и повелевавший мне выдать ему узника. Казак Емельян Пугачев был тогда арестован за незначительное преступление и, согласно приказу, был уведен из тюрьмы тем же монахом.
— Да, — воскликнул Пугачев, — да, он мне возвратил мою лошадь и дал кошелек дьявольского золота; тогда, ослепленный его словами, я был завлечен в мои родные степи, а оттуда на путь блеска и крови, который привел меня вот сюда. После того как не стало моей дорогой Ксении!
Слезы текли по его щекам, цепи звенели — он пытался утереть слезы.
— За что был тогда арестован этот казак? — спросил прокурор.