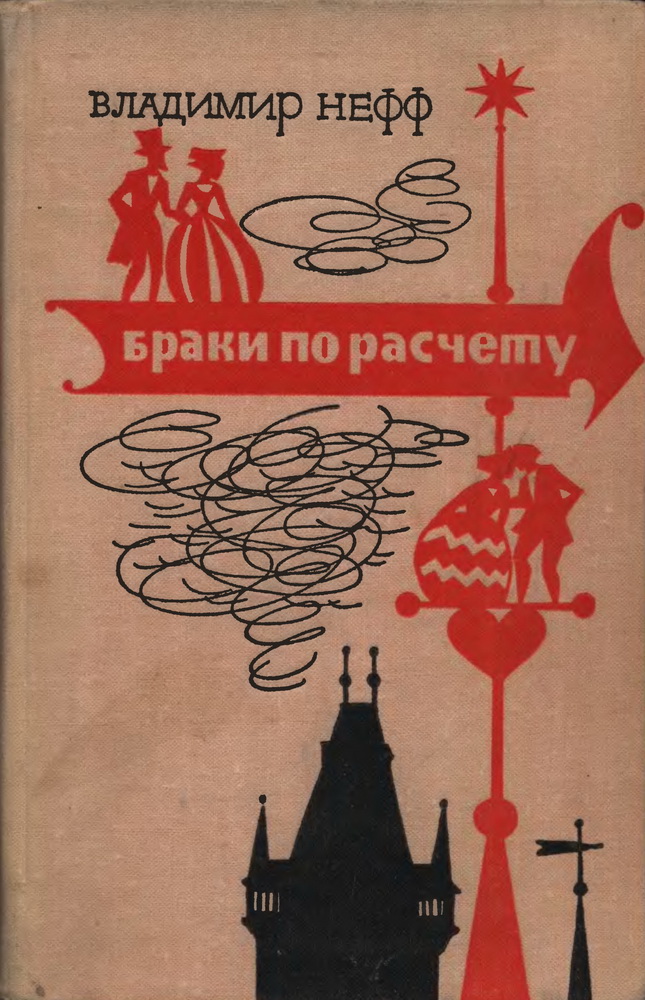тише. Вдали, невнятные, уносимые ветром, все еще раздавались клики, и пение, и ропот тысячных толп, раздававшиеся между небом и землей, — но в непосредственной близи от обоих друзей, на расстоянии двадцати — тридцати шагов, во все стороны ширилось молчание, замирало движение и жизнь, люди останавливались, с недовольством оглядывались на что-то.
Не все еще знали, что произошло, но тишина была так же заразительна, как и крики. Постигнутые этой заразой, люди замирали на месте, умолкали; казалось, сюда, в самую середину плато, забитого бурлящими толпами, вдруг пали мороз и смерть, и все, кто только что ходил, кричал, пел, превратились в статуи.
Причиной такой странной и неприятной перемены была кучка людей, на первый взгляд совсем обыкновенных; неторопливым казенным шагом они шли через расступавшуюся перед ними толпу. Все с бородками, все какие-то неопределенно и до странности серые, словно их покрывала тонкая пыль или песочек из канцелярских песочниц для присыпания чернил, они внешностью своей очень мало — или ничем не отличались от людей, мимо которых проходили, распространяя оцепенение. Но даже будь они облечены в рыцарские доспехи, или в судейские мантии, или в шутовские колпаки, — они не могли бы выделиться резче. Само их появление действовало гипнотически, вокруг застывало всякое движение, в то время как сами они — причина этой оцепенелости — неуклонно двигались вперед, спокойные, важные, грозные.
— Это комиссар Орт, из сволочей сволочь, — шепнул Пецольду Фишль, незаметным движением подбородка указывая на господина в цилиндре, возглавлявшего эту группку людей, — мрачного человека с черными, закрученными кверху усами и столь странного сложения, что подбородок его соединялся с грудью, а грудь с животом, образуя единую плавную выпуклость.
Комиссар Орт, руки за спиной, шагал со строгим видом, медленно поводя черными глазами справа налево и слева направо, и куда достигал его взор, там все замирало. Таким завораживающим был взгляд его казенных глаз, что даже взгляни он на птицу, распевающую на ветке, и та бы, пожалуй, захлебнулась и пала наземь.
Комиссар со своими людьми шагов на десять не дошел до того места, где стоял Пецольд рядом с невообразимо взволнованным Фишлем (Пецольд с тревогой услышал какой-то шипящий звук, исходящий из горла своего друга, и, наклонив к нему ухо, различил, как Фишль сквозь зубы повторяет одно слово: «сссвинья, ссвинья»), — и тут Орт остановился; остановились его спутники, и комиссар промолвил голосом не высоким и не низким, бесцветным, одним словом казенным:
— Разойдись! Все прочь отсюда! Приказываю немедленно разойтись.
И тотчас, словно разрешенная от заклятия, превратившего ее в мертвый камень, толпа зашевелилась, ожила, коридор, в котором стоял со свитой комиссар Орт, стал расширяться; народ, привыкший к повиновению, попятился, начал разбредаться — слова комиссара имели полный успех. В эту минуту Фишль, не перестававший шипеть, не выдержал и, к ужасу Пецольда, закричал:
— Стой! Не расходиться! Оставайтесь на месте!
И немедленно движение прекратилось.
— Господа! Братья! — кричал Фишль, захлебываясь от возбуждения, не обращая внимания — а может, и не чувствуя, как Пецольд наступает ему на ногу. — И не думайте расходиться! Никто нам не может приказывать… Мы собрались не для демонстрации, не для беспорядков, а для того, чтоб всем вместе посоветоваться, как нам сделать полегче тяжелое положение несчастных чешских рабочих…
Неслыханное, невиданное дело, чтобы такой незаметный человечек, как Фишль, встал бы лицом к лицу с представителями закона и государственной власти, да еще с представителем таким грозным и строгим, каким был комиссар Орт. При виде этого жилистого, длинноносого человечка, выкрикивавшего слова вызова и протеста прямо в выпуклое брюхо Орта, могло показаться, что сейчас Фишль задохнется от собственной недозволенной дерзости, почернеет в лице и падет в прах. Но ничего подобного не случилось; такое явное нарушение привычного хода вещей придало смелости толпе, собравшейся уж было отступить, — и коридор, образованный самим фактом присутствия Орта и его подручных, опять сузился.
— Никаких речей, разойтись! Именем закона приказываю немедленно разойтись! — ответил комиссар, но, хотя на сей раз повысил голос до того, что лицо у него стало совсем пунцовым, успеха он уже не имел.
Его призыв затерялся в ропоте, ворчании и свисте, а толпа, в центре которой разыгрывался этот эпизод, увеличилась, в то время как кучка чиновников, возглавляемая Ортом, наоборот, заметно сжалась.
А Фишль, у которого глаза вылезали из орбит, размахивал кулаками, топал ногами от ярости, заглушая все голоса, кричал изо всех сил — именем какого закона приказывают им разойтись?
— Я знаю только один закон, — кричал он, — и этот закон разрешает нам собираться! Вы думаете, пан комиссар, что довольно гаркнуть на нас именем закона, и мы все так и шлепнемся на задницу! Не те уже времена, пан комиссар! Мы тут собрались для невинного совещания, и мы будем невинно совещаться, хотя бы нам десять, хотя бы нам сто, хотя бы нам тысячу таких, как вы, приказывали разойтись!
Это было не только смелое, но и зажигательное выступление, и народ, все гуще толпившийся вокруг места действия, одобрил его громовым кличем: «Слава!» — по силе не уступавшим взрыву пороховой бочки.
— Сами видите, как вас народ обожает! — кричал Фишль срывающимся голосом. — Оставьте лучше нас в покое, а то я не ручаюсь за последствия!
— Тихо! Как ваше имя? — взревел комиссар.
— Молчи! Не говори! — загремели сотни голосов.
Тут Орт, переглянувшись со своими спутниками взглядом, который означал, что становится жарко и пора действовать решительно, пока хуже не стало, что было мочи засвистел, призывая помощь, в казенный свисток, который он носил в рукаве. Потом он сделал три быстрых шага вперед и положил руку Фишлю на плечо. Слова, которыми он сопровождал этот официальный жест, пропали в шуме, свисте и криках «Pereat», «к чертям его!» и «позор!».
И тут для Пецольда, для этого тихого, пассивного человека, прозванного теми, кто знал его, «Барашком», пробил великий и героический час. До сей минуты он только синел и зеленел, и единственной его мыслью и мечтой было заткнуть хоть шапкой неуемную, глупую пасть Фишля. Но когда он увидел, как хрупкое, по росту и объему мальчишеское тело товарища согнулось под тучной комиссаровой дланью, когда он увидел, что народ, испуганный свистками Орта, призывающими какую-то еще неизвестную опасность, хоть и ворчит и протестует, но действовать не собирается, — он издал короткое яростное ржание, наподобие жеребячьего, и, протянув руку, грозную грузчицкую лапищу, привыкшую таскать по лестницам дубовые шкафы и фортепьяно, ткнул своим каменным кулаком в то место, где комиссару полагалось бы иметь подбородок, — как оказалось, он там и был, хотя совершенно незаметный, — и, навалившись