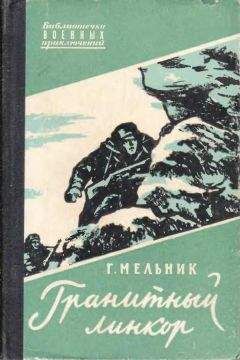Видно, вы вообще патологически завистливый человек. Вон и подполковнику Петрову завидуете.
— Э, нет! Петрову я завидую как своему. Я знаю, что выпади счастливый случай, и я могу оказаться на его месте. А вы… Как бы судьба ни вертела мной, я никогда ни в чем не смогу сравниться, с вами. Разве сознание этого не может отравить жизнь?
— Не знаю. Мне такие чувства неведомы.
— Счастливец… А однажды мы даже купались вместе. Не совсем, конечно, вместе. Я, естественно, всегда держался на нужной дистанции. Вы, вижу, большой любитель купаться и плаваете недурно. С истинным удовольствием, но, признаться, и не без той же зависти — сам-то я пловец аховый — смотрел, как вы каждый день эту самую их Шпрею саженками перемахиваете. И видно было, что не по вам речонка сия, не по вам. Такому пловцу только бы в Волге плавать, а еще лучше в Енисее или в Лене. Впрочем, ведь бог милостив, а вы совсем молоды — в Волге купались, в Шпрее купались, может, еще сподобитесь и в Енисее покупаться… А?
— Рады вы были бы меня на Енисей-то.
— Не скрою — рад. Но не об этом пока речь, сударь. Я о том, что вот прохлаждались вы себе в текучих водах, а ваш покорный слуга любовался вами да сгорал от зависти, особенно когда в конце августа началась эта ужасная жара. Ну почему, думал я, ему, завтрашнему обитателю Петропавловской крепости, все можно и все доступно, а мне, в некотором роде его властелину, ничего нельзя? Так эта мысль меня разъярила, что однажды не выдержал, растелешился и, вопиюще нарушая служебную инструкцию, бултыхнулся в те же волны. Хороша была водичка! От ее прохлады в тот знойный день да от сознания, что вот не один вы наслаждаетесь ею, я тогда так разнежился, что едва не упустил вас…
— Инструкцию надо соблюдать.
— Встречались мы с вами и в магазинах, по которым вы ходили перед отъездом, покупая, надо думать, подарки для родственников. И снова мне было не по себе видеть это. Ведь я доподлинно знал, что денег у вас кот наплакал, а вот, поди ж ты, направляетесь в большой магазин, покупаете то, покупаете се… И с такой это легкостью, беззаботностью, свободой, достоинством, будто вы не помощник присяжного поверенного вовсе, а великий князь или, к примеру, миллионщик Путилов!.. Я в жизни немало всякого люда повидал, в том числе и вашего брата — бунтовщиков да возмутителей, но даже среди них редко встречал такую уверенность в себе и вот эту свободу, что у вас в каждом движении. Да я бы и с большими миллионами так волен душой не был! Вот что меня злее-то всего заедало… Но позвольте-ка, в свою очередь, спросить вас, как вы догадались, кто я, если по тем мимолетно брошенным взглядам в памяти вашей я вполне отчетливо все-таки не запечатлелся?
— Конечно, по выражению лица и по всему облику. Лицо у вас прямо-таки вопиет. Неужели господин Рачковский и другое ваше начальство не понимают этого? Неужели не могут подобрать людей с менее выразительными физиономиями?
— Лицо и вообще внешность, господин Ульянов, могут ввести в заблуждение. Не зря еще лорд Байрон писал…
— Байрон?!
— Понимаю смысл вашего удивления, очень хорошо-с понимаю. Но представьте себе — почитываю. Так вот, Байрон в «Дон-Жуане» писал:
Обманчива бывает часто внешность.
Судя по ней, нетрудно впасть в погрешность.
— Весьма уважаю Байрона, но другой писатель, и тоже, кстати, английский…
— Имя назвать не хотите? Полагаете, оно мне ничего не скажет?
— …Другой писатель утверждал: «Только очень поверхностные люди не судят по внешности». Мне эта мысль представляется более верной и глубокой.
— Дерзаете перечить классику мировой литературы?
— Для меня классики существуют не затем, чтобы на них молиться.
— Смело, смело… Но вот взять хотя бы и вашу внешность. На первый-то взгляд она ведь ничем не примечательна, пожалуй, даже, уж извините, простонародна. Когда я впервые увидел вас в Швейцарии, то невольно вспомнил слова из одной казенной бумаги, с которой по долгу службы мне довелось ознакомиться: что-де крупнее Ульянова сейчас в революции фигуры нет. Вспомнил и был поражен, насколько ваша внешность не соответствует такой аттестации. Правда, потом, особенно теперь, когда спокойно разглядел вас вблизи, ваш редкостный по очертаниям лоб и ваши темно-темно-карие глаза, — теп ерь-то я вижу, чего вы стоите. Пожалуй, помянутая бумага права. Человека с такими глазами, как ваши, будь моя воля, я бы, не колеблясь, назначил военным министром, истинный крест!
— Перестаньте на меня пялиться и замолчите. Вы мне надоели».
…Ульянов опять отвернулся к окну. «Туда-да-да, туда-да-да, туда-да-да», — радостно пыхтел паровоз. «Конечно, туда, туда, куда же еще! — подумал Ульянов. — Но что меня там ждет?».
Когда через четверть часа он взглянул на соседа, ему показалось, тот задремал. Но сосед словно только и ждал, чтобы на него обратили внимание, и, поймав взгляд Ульянова, попытался опять завязать разговор.
— Какой у вас элегантный чемодан, — сказал он, кивнув головой в сторону полки, на которой лежали вещи. — Не французский ли?
— Нет, — ответил Ульянов и, помолчав, добавил: — В Берлине купил.
Только всего и сказал. Но подлинный смысл этого скупого диалога был опять совсем иным, гораздо более широким и многозначительным.
«— Умно, господин Ульянов, — мысленно проговорил шпик. — Не клюнули на мою французскую удочку. Чемоданчик-то действительно куплен в Берлине. Даже точный адресок могу назвать: Манштейнштрассе, три. Проживает там один негодник под видом переплетчика. Он-то и снабжает вас, российских собратьев по преступным замыслам, такими, с позволения сказать, чемоданчиками. Уж не раз я обращал внимание соответствующих немецких чинов на этого искусника. Да что-то они все мешкают. Видно, какой-то свой рас-четец имеют… Не будете же вы отрицать, что чемоданчик сей с двумя донцами? А между донцами-то что? Неужто только берлинский воздух? Неужто он настолько лучше петербургского, чтобы его в такую даль везти?
— Какое вам дело до моего чемодана? Ничего там для вас интересного нет, — говорили глаза Ульянова. — Не полезете же вы проверять?
— Чтобы я полез в чужой чемодан — боже упаси! Но вот мы сейчас приедем в Вержболово, и, прежде чем переступить священные пределы нашего богоспасаемого отечества, надо пройти, извините великодушно, таможенный досмотр. А в таможне там уж такие, знаете ли, барбосики глазастенькие, уж с таким нюхом да слухом, что макову росинку в пределы империи не пропустят, ежели оная росинка беззаконная. Что вы там-то делать будете? Как с помянутыми барбосиками разговаривать станете?.. Ах, искусники, ах, изобретатели! Горе мне с вами, и только! Ведь я уж не один год только и делаю, что денно и нощно слежу за всякими изобретениями вашего брата.
— Пошел к черту, холуй».
Ульянов надел пальто, взял чемодан и направился к выходу: поезд замедлял ход.
Увидев его в полный рост, агент невольно залюбовался им: такой он был ладный да крепкий, такой уверенностью, смелостью, силой веяло от всей его прочно сбитой фигуры. Право же, быть бы ему военным министром, даром что ростом невелик… И агенту на мгновение стало даже досадно и грустно, когда он подумал о том, что ждет этого молодого человека в самом ближайшем будущем.
Положение Ульянова было отчаянным. Чемодан с двойным дном, конечно, был не пуст. Тайное пространство битком набито нелегальной литературой, предназначенной для рабочих кружков.
Ульянов, разумеется, знал, что этот способ провоза литературы через границу известен полиции, и, принимая в расчет, что за ним, по всей вероятности, очень тщательно следят, все время пребывания за границей не держал в уме намерения тащить с собой в Россию что-нибудь недозволенное. Но в последний момент не выдержал — искушение привезти новейшую пропагандистскую социалистическую литературу было слишком велико, да и чемодан сработан прекрасно и мог пригодиться в будущем. Сейчас. Ульянов ругал себя за такой опрометчивый шаг, как ругал он себя позапрошлой зимой после того, как на рождественской вечеринке в доме Залесской на Воздвиженке среди незнакомых ему людей, где вполне мог находиться и провокатор, он не сдержался и открыто, яростно обрушился на маститого Василия Воронцова, который с поразительной самоуверенностью излагал замшелые народнические взгляды. Тогда, опомнившись, он тотчас ушел с вечеринки. А куда уйдешь здесь? Нет, это непростительно. Никогда в жизни он больше не позволит себе ничего подобного. Ведь ясно, что если его не арестуют тут же, на перроне, то уж чемодан-то проверит обязательно, и самым дотошным образом. Как же быть? Выбросить чемодан или его тайное содержимое на станции невозможно — шпик, конечно, идет сзади и не спускает глаз. Что делать?..
Провоз через границу нелегальной литературы грозил несколькими годами тюрьмы или ссылки. В такой момент совершенно выбыть на долгий срок из политической жизни?..