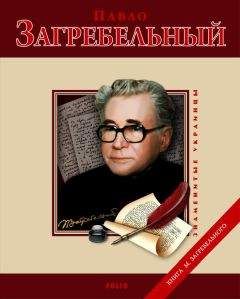— За что они ее так?
Гюргий молча обнял Сивоока за плечи, повел его с вала вниз, осторожно прошел с ним через торговище, затем они миновали темные дворы боярские и купеческие, вышли на поле, где среди камней, дерева, плинфов, среди разрытой земли, среди строительного мама, среди возов, под которыми спали люди, среди фырканья коней и вздыхания волов, жевавших во тьме свою жвачку, поднимались в киевское небо еще не завершенные стены причудливого, дивного сооружения.
— Видишь? — горячо прошептал Гюргий.
Сивоок молчал.
— Они такого не могут! — горячо промолвил Гюргий. — Никто не может. Только ты! А они, как голодные шакалы, рвут у тебя, что могут!
Сивоок стоял словно окаменелый.
— Проклятье, проклятье им всем, бездарным, завистливым, никчемным! — воскликнул Гюргий, и голос его, отразившись от стен, громким эхом загремел над всеми строительными стойбищами, эхо перебрасывало грозное слово с ладони на ладонь, смаковало его: «Проклятье… клятье… ятье… ятье!».
— Да разверзнутся небеса и поразят их громами и молниями! — неистовствовал Гюргий, надеясь вырвать своего товарища из тяжкого оцепенения обвалом слов, которые он обрушивал на головы притаившихся здесь злодеев. — Да проклянет их всяк входящий и выходящий! Да будет проклят харч их, и все добро их, и псы, которые их охраняют, и петухи, которые поют для них! Да будет проклят их род до последнего колена, да не поможет им молитва, да не сойдет на них благословение! Да будет проклято место, где они теперь, и всякое, куда перейдут или переедут! Пусть преследуют их проклятья днем и ночью, ежечасно, ныне и присно, едят они или переваривают пищу, бодрствуют или спят, стоят или сидят, говорят или молчат! Проклятье их плоти от темени до ногтей на ногах, да оглохнут они и ослепнут и станут безъязыкими все, проклятье им отныне и во веки веков до второго пришествия, им, трижды никчемным, мерзким и гадким! Аминь!
Сивоока это мало утешило. Если бы можно было благословением или проклятием возвратить чью-то утраченную жизнь! Но не поможет, ничто не поможет. Да Гюргий, отведя немного душу в словах-проклятиях, тоже понимал, что его товарищу нисколько не полегчало, но не такой человек был ивериец, чтобы беспомощно опускать руки, он снова подскочил к Сивооку, обнял его крепко за плечи рукою, сдвинул с места, повел вперед, прямо к стенам строящейся церкви, нашел там в темноте ступеньки, по которым можно было взобраться наверх, на самую верхушку волнистых апсид, проводил туда измученного Сивоока, казалось, навеки утратившего интерес к жизни, и, когда встали они на широкой стене, под покровом душистой летней ночи, когда ударил в их разгоряченные лица свежий ветер из-за Днепра и из дальних боров и пущ, Гюргий рванул из-за пояса небольшой бурдючок, в котором, по обычаю своей земли, всегда носил вино, поднес трубку к губам Сивоока, крикнул:
— Пей! Только жалкие души могут думать, что остановят тебя, Сивоок! Пей, чтобы ты возвысился над всеми, чтоб утопил своих врагов!
Сивоок через силу шевельнул языком, сделал глоток, вино было пахучим и обжигающим, прокатилось по его внутренностям, будто клубок веселого огня; тело его встрепенулось, постепенно возвращаясь к жизни, сознание было еще омрачено, однако уже пробивалась мысль о том, что великое дело, которое он начал, должно превысить все: и боль, и горе, и несчастье!
— Пей! — кричал Гюргий. — Пей, и да будет с тобой сила наших предков — твоих и моих! Да будет огонь и страсть!
Вино из бурдюка содержало в себе полынную горечь степи и пронзительную прозрачность гор, искрометные лучи солнца отзывались в нем и влились прямо в кровь человека, Сивоок сделал еще один большой глоток, оперся плечом о Гюргия, крепче утвердился на стене.
— Брат мой, — сказал он, обращаясь к Гюргию, и повторил: — Брат мой!
Тот обнял Сивоока, прикоснулся к его бороде своей иверийской бородкой.
— Дорогой, — промолвил он растроганно, — все-таки жизнь — величайшая роскошь! Пей!
«Да, — думалось Сивооку, — жизнь прекрасна. Нужно это понимать даже тогда, когда кажется, что все уже утрачено».
Аще бо поищеши в книгах мудрости прилежно,
то обрящеши великую пользу души своей.
Летопись Нестора Собор стоял среди снегов в холодном белом одиночестве. Розовая громада его возносилась к самому небу, и низкие облака задевали о самый высокий купол, беспомощно запутывались между куполов, расположенных ниже, мгновенно останавливались в своем беге, и тогда казалось, будто начинает лететь над землей сам собор, и сплошная его удивительная розовая окраска заслонялась желтизной кованого золота, которым покрыты были купола, и весь собор внезапно засвечивался, будто соты, полные меду, и даже в самых мрачных душах становилось яснее от этого зрелища.
А ведь строили его в спешке, так, будто сооружался храм для покорения и заточения духа людского Ворочали камни, тащили дерево, везли плинфу, все это нужно было поднять, сцепить в невидимые для непосвященного глаза связи, из ничего создать невиданное, из суматохи, из сумятицы родить гармоничность. Камень и заправку носили на плечах. Деревянных лесов не ставили, потому что тогда не было бы доступа к стенам тем неисчислимым тысячам люда, которые стремились подставить свои плечи под тяжесть. Мастера по камню повисали в деревянных гнездах вокруг стен, стояли плотно на самой верхней части строения, все необходимое для них подавали при помощи журавлей, блоков, крутилок; применялись не только ручные, но и большие круги, приводящиеся в движение ногами. Князь торопил своих строителей. Не трудились только в день Рождества, во все остальные дни работали при огне с вечера до второй стражи, а с утра — начиная со стражи четвертой. За спешку строители платили князю своим высоким умением издеваться над княжеской казной, так что Ярославу приходилось обращаться за помощью к боярам, купцам и даже к простому люду, с которого ранее было уже содрано все, что только удавалось содрать силой. Князь просил о пожертвованиях, и тогда несли кто что мог, а еще в зависимости от того, кто какой грех или какую провинность хотел искупить перед новым неизвестным, но всемогущим, как об этом молвилось повсеместно, Богом: несли золото и серебро, оружие, украшения, несли кто корец ржи, кто поросенка, кто пару кур, кто десяток яиц. Все принималось; тут же, рядом с возводящейся церковью, были поставлены княжеские торговцы и менялы, которые помогали сбывать кое-что из пожертвований, давая взамен деньги или драгоценности; остальные пожертвования сразу же шли в дело: поросят жарили и съедали строители, они же резали кур, варили кашу, пекли хлеб.
Так вырастала эта огромная церковь, и так ее завершили и покрыли кованым золотом еще до того, как были насыпаны в полную высоту новые валы Ярослава и определены границы великого Киева. Когда Ярослав увидел готовую церковь святой Софии во всем ее величии среди людского муравейника, занятого возведением новых валов, и представил, что вскоре весь этот люд, а вместе с ним и еще столько, осядет по эту сторону валов навсегда, лишь тогда понял, что народ, собранный в городе вместе, намного страшнее правителю, чем рассеянные по всей земле одинокие ратаи, пастухи, ловчие, бортники и просто бродяги и беглецы. Но дела государственные, однажды начатые, уже не удается остановить. Великое государство требовало и большого города. А Русь была теперь великой державой и должна была быть еще большей. Византия одним лишь своим существованием должна была вызвать к жизни еще хотя бы одну такую же великую и могучую землю. В мире не может существовать только одна великая держава, необходимо соперничество, необходимы взаимные опасения, постоянная предосторожность, в противном случае — конец человечеству.
Разве же история не подтверждает это? Во времена Александра Македонского мир находился на грани полного подчинения, а следовательно, и уничтожения в рабстве, только просторы Индии поглотили и распылили всемогущее войско Александра, и так продержался мир дальше. Римские легионы, наверно, смогли бы уничтожить все сущее, если бы не разбились в конечном итоге о дикие орды германцев, и уже Византия возникла перед концом Римской империи, словно ее обломок и одновременно — соперница мрачного Рима. Но как только Византия возникла, она сразу же родила себе в противовес новые державы: агарян, персов, болгар, германцев, наконец, державу Русскую, которая выросла в самого грозного соперника и, кажется, неодолимого, ибо императоры византийские даже не пытались посылать свои войска в эту великую и загадочную страну, боялись ее бесконечности, ее холодов, ее многолюдья. Даже Василий Македонянин не отважился выступить против Руси, хотя, казалось, мог бы воспользоваться ситуацией, которая возникла в период соперничества сыновей Владимира.