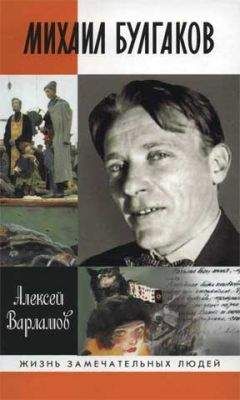Трезвый Керженцев и обстоятельный Пикель оценивали «Бег» так, как если бы у этой пьесы и ее героев была нормальная температура: тридцать шесть и шесть, а у Булгакова температура каждого человеческого тела, и красного, и белого, зашкаливала за сорок (даже у Корзухина, которому недаром говорит Чарнота: «Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна!»), и обычные инструменты анализа здесь не срабатывали. То было произведение лихорадочное, горячечное, мятущееся, его герои с трудом отдавали себе отчет в своих поступках, утратив границу между реальностью и сном, между жизнью и смертью. Эта пьеса замышлялась и проживалась писателем в ту пору, когда он сам служил у белых и видел их обреченную армию, когда валялся с тифом во Владикавказе и был брошен отступающими братьями по оружию, когда в горячечном августовском бреду бродил по Батуму и грезил о Константинополе. В «Беге» не было белогвардейской идеи, но был белый акцент. Чуткие, натасканные советские критики это почувствовали; им хотелось, чтобы ловкими, удачливыми, находчивыми в стане врага были красные (именно так описывал Рощина с Телегиным нормальный Толстой в нормальном «Хождении по мукам»), а у Булгакова все выглядело наоборот, и зритель не мог втайне или не втайне не порадоваться за Чарноту, который так лихо спасся от большевиков. Но Булгаков вопроса о том, за кого он – за красных или за белых, – просто не ставил. Все – люди, всех жалко. А что касается красных, то за них вообще Господь Бог, который заморозил Сиваш, по которому как по паркету прошла конница Буденного, так при чем здесь «авторская позиция» и что про нее говорить? Про красных, про их военный талант было сказано одной строкой из донесения генерал-лейтенанта Хлудова господину главнокомандующему: «…но Фрунзе обозначенного противника на маневрах изображать не пожелал, точка. Это не шахматы и не незабвенное Царское Село, точка».
Как известно, прообразом автора этого смелого послания стал генерал-лейтенант Яков Александрович Слащев, в 1919–1920 годах столь же успешно, сколь и жестоко руководивший обороной Крыма, а затем поссорившийся с генералом Врангелем[54], прямо обвинивший «черного барона» в поражении Добровольческий армии, – мысль Булгакова очень близкая еще со времен «Белой гвардии»: в поражении добровольцев виновато в первую очередь командование. В 1921 году в Константинополе уволенный за критику Врангеля из армии без права ношения мундира и получивший в качестве компенсации ферму под Константинополем для занятий сельским хозяйством Слащев выпустил книгу «Требую суда общества и гласности. Оборона и сдача Крыма. (Мемуары и документы)». Одновременно с этим честолюбивый военачальник вступил в тайные переговоры с советскими представителями и 21 ноября 1921 года вернулся в Севастополь, где его от греха подальше, чтобы не убили прямо у причала, как предсказывал Хлудову Чарнота, встретил Феликс Дзержинский и в своем вагоне вывез в Москву. Этот захватывающий сюжет в «Бег» не вошел, но в целом фигура Слащева и его переменчивая судьба очень сильно заинтересовала Булгакова. В 1924 году, уже работая преподавателем стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава Красной армии, Слащев опубликовал в СССР книгу «Крым в 1920 г. Отрывки из воспоминаний», которую Булгаков внимательно читал. По всей вероятности, обвинительный пафос Слащева в адрес белого генералитета отвечал его настроению и идеям, и все же, несмотря на то, что драматург основательно изучил историю и географию крымского вопроса, «Бег» – наименее политическое и наименее историческое в узком смысле этого слова из произведений Булгакова, посвященных революции и Гражданской войне. Зато – наиболее музыкальное. Если в «Белой гвардии» герои Булгакова, по очень точному выражению одного из исследователей, загораживались оперой от оперетки, то напевы «Бега» еще богаче и разнообразнее, и они врываются в театральное действие с частотой, великолепием и мощью ливневого дождя с градом. Это колокольный звон и пение монахов в монастыре, где спасаются как в Ноевом ковчеге двое бегущих из Петербурга интеллигентов, а вместе с ними переодетый в беременную женщину генерал и облачившийся страха ради иудейска в местного обывателя архиепископ, это казачий полк, оставляющий последние пяди родной земли и распевающий песню «Три деревни, два села…», это нежный медный вальс, под который когда-то на балах танцевали гимназистки, а теперь белый как кость, похожий на императора Павла Первого курносый генерал Роман Валерианович Хлудов[55] вешает на «неизвестной и большой станции на севере Крыма» саботажников; это напев арии Германна из «Пиковой дамы», унаследованный от обрусевшего маркиза Де Бризара генерал-майором Григорием Лукьяновичем Чарнотой, это многоголосие Константинополя, куда вплетены голоса торговцев, шарманка Голубкова, «Севильский цирюльник» и сладкое пение муэдзина. Музыка сопровождает те осмысленные и бессмысленные, хаотичные и упорядоченные действия, которые совершают герои, но главное для Булгакова не поступки, а сознание, их отразившее. И сны, из которых пьеса состоит, не просто художественный прием, не условность и тем более не попытка что-либо завуалировать, как полагали булгаковские противники, а художественное мышление, определенное видение, своего рода исповедание действительности. «Бег» и есть авторская исповедь, облеченная в форму пьесы, и авторские ремарки, пояснения, характеристики неслучайно занимают здесь порой по целой странице и играют ключевую роль. Начальник станции, который «говорит и движется, но уже сутки человек мертвый», вестовой Крапилин, в разговоре с Хлудовым заносящийся в «гибельные выси», а потом срывающийся и падающий, герои, проваливающиеся в никуда и вырастающие из ниоткуда, Голубков, которому кажется, что его жизнь ему снится, Люська, единственный живой персонаж среди этих теней и призраков, чье лицо дышит неземной, но мимолетной красотой, которая пойдет на панель, выйдет замуж за негодяя, но не будет голодать сама и не позволит голодать своим ближним (чисто алексейтолстовский ход мыслей!) – через эти образы Булгаков передал состояние войны, катастрофы, вселенского раздора как в мире, так и в человеческой душе, а политическая подоплека волновала его меньше всего.
«Я стрелою проник сквозь туман, и теперь вообще не время… Мы оба уходим в небытие», – говорит Хлудов главнокомандующему, и это небытие, а вместе с тем и инобытие, пакибытие, уже приоткрытое в сне Алексея Турбина, – вот что для Булгакова главное. «Бег» – пьеса прежде всего мистическая, раздвигающая рамки земного, чувственного, от нее ведет прямая дорога к «Мастеру и Маргарите», и именно здесь следует искать ключ к словам Булгакова, обращенным к Сталину: «Я писатель мистический».
Только советской власти все это было не нужно, она подходила к делу прагматично, и на этот раз Политбюро взяло не сторону Булгакова, а сторону ему враждебную, и произошло это еще до того, как в спектакль были вложены деньги. Аппарат научился работать. 14 января 1929 года была создана комиссия, в которую вошли К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович и А. П. Смирнов. Перед ними стояла задача решить судьбу пьесы:
«Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) „О пьесе М. Булгакова 'Бег'“
от 14 января 1929 г. № П 60/2-рс Строго секретно
О пьесе М. Булгакова „Бег“.
Передать на окончательное решение т.т. Ворошилова, Кагановича и Смирнова А.П.
СЕКРЕТАРЬ ЦК».
Парадоксально, странно, загадочно, по-воландовски таинственно, но за несколько дней до того, как была сформирована эта комиссия, не стало генерала Якова Слащева. «11-го января, как у нас сообщалось, в Москве на своей квартире убит бывший врангелевский генерал и преподаватель военной школы Я. А. Слащев. Убийца, по фамилии Коленберг, 24-х лет, заявил, что убийство им совершено из мести за своего брата, казненного по распоряжению Слащева в годы гражданской войны. <…> В связи с убийством производится следствие. Вчера в 16 ч. 30 мин. в московском крематории состоялась кремация тела покойного Я. А. Слащева», – писали 15 января 1929 года «Известия». А издававшаяся в Варшаве газета «За свободу» 18 января прокомментировала это убийство на свой лад: «Впоследствии выяснится, убила ли его рука, которой действительно руководило чувство мщения или которой руководило требование целесообразности и безопасности. Ведь странно, что „мститель“ более четырех лет не мог покончить с человеком, не укрывшимся за толщей Кремлевских стен и в лабиринте Кремлевских дворцов, а мирно, без охраны проживавшим в своей частной квартире. И в то же время понятно, если в часы заметного колебания почвы под ногами нужно устранить человека, известного своей решительностью и беспощадностью. Тут нужно было действительно торопиться и скорее воспользоваться и каким-то орудием убийства, и печью Московского крематория, способного быстро уничтожить следы преступления».