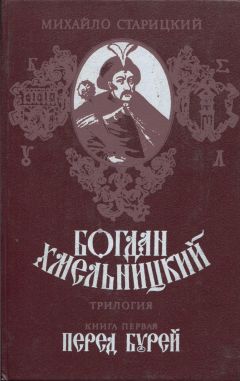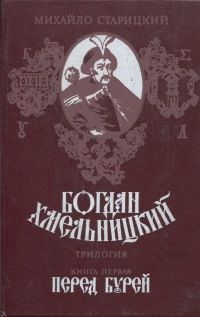— Одна родная, ваша ясная мосць, а другая приемыш... да... просто пальцы оближешь!..
— Цяцюня? Хе-хе-хе! — засмеялся Барабаш, зажмурив глаза и покачиваясь из стороны в сторону.
Словно молот тяжелый упал Богдану на голову. «Это Марылька!» — сверкнуло у него молнией и молнией же ударило в дрогнувшее сердце. Не получая никаких известий о Марыльке во время пребывания своего за границей, не получая от нее ответа на посланное ей письмо уже из Суботова, Богдан порешил, что панянка забыла его, поглощенная волнами новой, увлекательной жизни, и что ему, козаку, не к лицу носить какую-то болячку на сердце про несбыточное черт знает что... и вдруг при одном известии он почувствовал в сердце боль, и такую щемящую да досадную, что даже бросилась ему в лицо кровь и глаза сверкнули диким огнем.
— Ну, так что же разведал там вацпан? — с раздражением уставился староста на Ясинского.
Что Оссолинский, ясноосвецоный, задабривает козачью старшину... О, это хитрая лисица... но и старшина тоже... ой, ой, ой! — не спускал он с Хмельницкого пьяных глаз.
— Это поклеп и на Оссолинского, и на старшину! — крикнул, вспыливши, Богдан и отвел смущенно глаза.
— Старшина верна Речи Посполитой! — добавил Ильяш.
— Предана как собака... как скаженая, — забормотал Барабаш, вытирая усами тарелку.
— Как один да один — два! — выпрямился Шемброк.
Но, пан сотник, — подчеркнул Конецпольский, — ведь ты бывал у Оссолинского... и, кажется, канцлером взыскан?
— Да, ваша вельможная мосць, был раз, — ответил, несколько оправившись, Хмельницкий, — но никаких милостей не удостоился... Да и вероятно ли, чтоб государственный муж, вельможа и вдруг бы стал откровенничать с козаком, которого в первый раз видит? Другое дело — пан Ясинский, что с его ясною мосцью запанибрата.
— Да, да, запанибрата, — залепетал непослушным языком пан Ясинский, — потому что я крикну: «Не позвалям!» — и всех заставлю на сейме молчать, а с козаком не станет никто и говорить. Зась! — хотел он сделать рукою какое-то движение и покачнулся на стуле; Чаплинский бросился и помог Ясинскому дойти до открытого окна. Конецпольский только махнул рукою.
Подали на столы последнюю перемену: разные медовые сласти, пирожки, соты липового меду и фрукты.
— Панове!— торжественно возгласил Чаплинский. — Теперь начинается великий час вожделений.
— Кохаймося! — крикнул Комаровский.
— Виват! — подхватили другие.
— Так я предлагаю, панове, — кричал хозяин, — скинуть жупаны и расстегнуть пояса перед появлением нашего старого литовского меду!
— — Дело! — подал первый пример Комаровский, а за ним и другие начали разоблачаться. Кто-то пошатнулся и упал, кто-то захрапел, с кем-то сделалось дурно...
— А где же твои литовские нимфы? — обратился к Чаплинскому захмелевший староста.
— Не нимфы, ваша мосць, а мавки!
— Один черт, лишь бы не духи, а осязаемые; но они, надеюсь, прелестны и без нарядов?
— Совершенно, — покровы красоту оскорбляют. Я полагал бы, чтобы эти мавки прислуживали нам теперь и наполняли нектаром кубки.
Одобрительное ржание поддержало это предложение.
Богдан, воспользовавшись общим возбуждением и суетой, незаметно вышел из светлицы.
— Но как пан пробощ? Благословит ли? — заметил Заславский.
— Невинные удовольствия освежают душу, — опустил тот смиренно глаза, — но, чтобы не смущать вас, братие, я удалюсь в беседку, а хозяин мне туда пришлет с нимфой кружечку меду.
Вся мужская прислуга была удалена; матки на окнах опущены. За дверью послышался хохот и визг девичьих молодых голосов, но среди них доносились и тихие всхлипывания да взрывы рыданий.
Началась безобразная оргия...
С большим трудом удалось Богдану отыскать своего коня. На конюшне и на дворе пана подстаросты шло такое же повальное пьянство, как и в покоях, только все здесь было еще проще. Выкаченная бочка водки была уже почти пуста, но два полупьяных конюха еще трудились над нею, вставляя неумело ливер в воронку; остальные по большей части уже храпели врастяжку на зеленой траве и под повозами своих господ. Из переполненной лошадьми конюшни слышались ржание, храп и стуки копыт о твердую землю. Лошади, не уместившиеся в конюшне, были просто привязаны у дышел или около высоких, вбитых в землю столбов. Полный месяц с самой вершины неба словно заливал всю эту пеструю картину ровным зеленоватым светом.
Наконец Богдан отыскал своего Белаша, сам оседлал его и, вскочивши в седло, поскакал быстрым галопом по сонным Чигиринским улицам. Через несколько минут он был уже в ровной и безлюдной степи.
Конь Богдана, не сдерживаемый рукой, летел вскачь; вид самого Богдана был так растерян и встревожен, что, казалось, сотник спешил скрыться от настигающего его врага. Весь хмель, какой был в голове козака, разом выскочил от последних слов Ясинского. О, этот Ясинский, опять он встретился на его пути и, как черный ворон, всегда каркает ему беду! Проклятая ящерица, раздавить бы тебя ногою, чтоб не паскудила белый свет! Но и молодой пан Чигиринский староста слишком мало смотрит на старших людей... После того, как князь Ярема выгнал эту гадину из своих хоругвей и сам старый Конецпольский благодарил его за это, он смеет принимать к себе этого пса?.. О, это все штука пана свата! Это он выволок Ясинского на свет! И с какою радостью, с каким ехидством передавал этот выродок страшную весть! Вырвать бы ему эти подкрученные усики и лживый, облесливый язык... «Есть подозрение на короля и на Оссолинского, — вспоминал отрывочно Богдан, — думают и на козацких старшин. Да неужели же фортуна захочет так зло подсмеяться над нами?.. Кто дознался, кто додумался, кто?.. А может, и ложь? — Богдан остановился. — Может, все выдумал он для того, чтобы прихвастнуть, чтобы уколоть меня? Ложь, ложь, — крикнул Богдан почти радостно. — Говорит, что бывал у Оссолинского... где ему у канцлера бывать? Однако, кто же мог ему сказать о свадьбе? — Богдан задумался. — Что ж дивного? Мог быть в Варшаве, искать места, просил у канцлера, ну, и услыхал... ведь говорит — приемыш, а приемыш у канцлера один...»
Богдан сбросил с головы шапку и придержал разгорячившегося коня. Потонувшая в лунном сиянии степь веяла какою-то тихою, элегическою задумчивостью.
— Марылька... — прошептал он тихо, опустив незаметно поводья, и глянул, прищуря глаза, в мглистую даль, словно хотел разглядеть там в туманном сиянии дивный образ, всплывавший перед ним. — Четыре года назад, четыре года, — проговорил он задумчиво, незаметно для самого себя погружаясь в волну какого-то сладкого воспоминания. Прошло несколько минут. Богдан очнулся. — Ясинский говорит, что замуж идет... Что ж, дай бог счастья! Лучшая доля! — Невольный вздох вырвался у него. — Эх, думаю, какой красуней стала! Верно, и глаз не оторвать! Тонкая да гнучкая, белая, как морская пена, а волнистые золотые волосы и тогда падали до колен... Что ж, и не написала про свою долю тату, ведь татом звала тогда,— усмехнулся едко Богдан. — Э, да что. там разбирать! — Нагайка его резко свистнула в воздухе. — Тато ли, брат ли, а, хотя б и муж, — женская память до завтрашнего дня. — У Богдана вдруг поднялась в душе глухая обида. — И за кого идет? Верно, за какого-либо магната! О, каждый из этих псов рад полакомиться таким ласым кусочком! Что ж, пусть идет, дай бог счастья! — повторил он сам себе несколько раз. — Только названному батьку не мешало бы хоть словечко написать! Ну, да вздор! — крикнул вдруг, Богдан сердито. — Какое мне до того дело, кто за кого замуж идет? Пусть там хоть все черти с ведьмами в пекле переженятся — мне наплевать! Вот канцлер, канцлер! — сжал он в руке нагайку! — Да и что знают? Верно, только шальные слухи... А если доведаются о цели его поездки к чужеземным дворам?! Ух, — заскрипел Богдан зубами, — волки дикие, собаки несытые, наступили на горло, дохнуть не дают! Разведали уже и о королевских планах! Да если бы только узнать, кто выдал их, колесовать его, четвертовать его, ирода, мало, живьем смолою залить! А в случае открытия заговора, что спасет его, Богданову, голову? Уж не охранная ли грамота короля? — Взволнованное лицо Богдана искривила едкая, злая насмешка. — Нет, нет, вон те безглуздые, салом заплывшие, пьяные, жадные Чаплинские, Ясинские, Заславские, — перечислял он с мучительною радостью все знакомые шляхетские фамилии, — они паны, они короли! Кинут тебе кусок — ешь и лижи панскую руку, как Ильяш, как Барабаш, а толкнет пан сапогом — притихни, молчи, чтобы криком не разгневать господина... да еще слушай их речи!
Перед Богданом вдруг встала сразу вся сцена у Чаплинского и свой неудачный ответ и замешательство; поздняя, бессильная злоба охватила его... О, что бы он дал, чтобы вернуться теперь, сейчас туда, чтобы отречься тут же, при всех, от своих слов и бросить им всем в лицо настоящий ответ! Ах, эти речи!