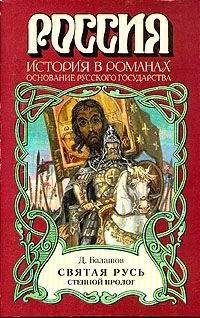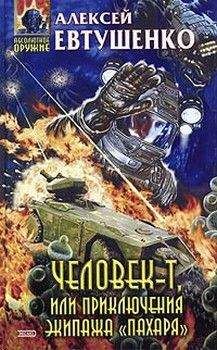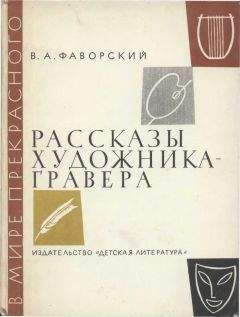Тут же, в прямом смысле, пал в ноги сперва Киприану, потом Сергию, и оба иерарха, второй с улыбкою, первый с некоторым удивлением, согласились крестить младеня, что и было свершено ровно через три дня. Только во время таинства, в соборе, озирая толпу боярынь, крестную и видя торжественное благолепие на лицах московской господы, понял Киприан, что поступает правильно и что свершаемый им ныне обряд ни в мале не унизил его высокого звания.
Сергий вскоре направил стопы свои домой. Перед расставанием они сидели с Федором в келье последнего в Симонове, вновь привыкая к спасительному одиночеству и тишине, отдыхая душой. Сергий давно уже не корил Федора даже про себя, убедясь, что племянник был прав, вырвавшись из укромной Троицкой обители сюда, на Москву. Сейчас преподобный сидел, слегка ссутуля спину, готовясь к долгому пути (обычаю своему пешего хождения Сергий не изменил и в старости). Федор тоже сидел расслабленно и чуть потерянно, таким не видел его никогда и никто из братии, да и вообще, никому, кроме своего дяди и воспитателя, не вверял игумен Федор сомнений своей души.
«Истинно ли то, что мы содеяли ныне?» — вот о чем спрашивал сейчас Федор с мукою и тоской. Сергий слушал его не шевелясь, глядя в трепетный огонек глиняного византийского светильника.
— Человек смертен! Вот ушел владыко Алексий. Скоро и мне! Наше время уходит, Федор, наступает иное, в котором надобнее такие, как Киприан. Мы были создатели, он — устроитель. Он сохранит митрополию, поддержит предание, и дело церкви Христовой продолжится в русской земле. Чего ты хотел иного? Митяя? Пимена? Дионисия? Но последний — и нетерпелив, и стар!
И такожде не угоден Литве. А тех, кто станет излиха мирволить земной власти, мы не должны с тобою желать узрети на святом престоле! Господу надобно служить паче жизни своей!
Федор молчит, всею кожей ощущая правоту слов наставника. Отвечает медленно:
— Мне ведомы его знанья, ум и талан, Киприан ставлен патриархом Филофеем и был его правою рукою, и он не допустит католиков на Русь, все так! Но меня страшит его суетность, его любование собой! Я не вижу в нем величия веры!
— Меня страшит иное, — помолчав, возражает Сергий. — Самолюбование всей земли! Грех гордыни навис над Русью и не окончил с битвою на Дону, но паки возрос в сердцах! Ведом тебе этот Софроний Рязанец? Тот, что сочинил для князя Дмитрия «Слово» о побоище на Дону?
— Ведом. Он, и верно, с Рязани. Из Солотчинского монастыря. Человек книжный. Принес с собою «Слово» некое, о походе на половцев путивльского князя Игоря, и, поиначив многое, по «Слову» тому написал иное, о днешнем одолении на враги!
— Ты чел то, прежнее, «Слово»?
— Чел, но бегло. Строй речи там древен, местами неясен, но зело красив!
— То, прежнее «Слово», как баяли мне, являлось плачем, словом о гибели. Софроний же поет славу. И вместе с тем указывает чуть ли не четыреста тысяч убиенных русских ратников… А воротилась десятая часть…
Что будут мыслить потомки об этом сражении? Учнут ли небрегать жизнями ратников, восславив толикое множество потерь? Мне страшно сие!
— Но ведь и вправду на Куликовом поле легла едва ли не треть войска!
— Треть, но не девять из десяти! Нельзя гордиться пролитой кровью, Федор! Некому станет пахать пашню и плодить детей. Земля должна жить, а для сего надобно отвергнуть гордыню ратную, заменивши ее молитвою и покаянием. Как сего достичь в днешнем обстоянии нашей жизни?
— Воззвать ко князю? — с нерешительною надеждой произносит Федор.
Сергий, отрицая, покачивает головой:
— Скорее ко Господу! Князя мог остановить, и то не всегда, один лишь владыка Алексий! И молиться ныне надобно так: сохрани и помилуй, Боже, русскую землю, впавшую в непростимый грех гордыни и ослепления! Ибо ратная слава тленна, и радость удачи скоро смывает бедой. Дай, Господи, русской земле мужества и терпения! Дай силу выстоять в бедах, но не возгордиться собой!
— Ты скоро на Дубну? — после долгого молчания спрашивает Федор.
— Да, возвожу новый монастырь по князеву слову!
И опять молчат. Где-то сейчас ссутулившиеся над листами плотной александрийской бумаги писцы прямым уставным почерком переписывают священные книги. Другие живописуют иконы, разрисовывают и золотят буквицы.
Творится медленное, неслышное и благодатное, как просачиванье воды сквозь почву, дело культуры. Неслышимое в лязге железа и бранных кликах, но безмерно более важное, чем все подвиги воевод.
Сергий смотрит в огонь, в полутьме чуть мерцает его лесной, настороженный взор. Худое лицо с западинами щек неподвижно и скорбно. За бревенчатыми стенами келий — терема и сады, расстроившаяся, раз от разу хорошеющая Москва. Дальше — леса, поля и пажити, города и деревни, бояре, кмети, смерды, и все это множество людское духовною опорою своей числит (даже не ведая о том!) вот этого одинокого старца, что встанет скоро, превозмогши временную ослабу плоти, и уйдет в ночь один, по глухой дороге, хранимый Господом хранитель Русской земли.
Только-только свалили покос. Кое-где уже «парят пары». Круглые, еще не осевшие зелено-желтые стога (или копны, как говорили в старину) весело глядятся на убранных, словно раздвинутых к изножью лесов полянах.
Поспевает рожь. Задумчивые, пухлые, плывут над землею облака. И небо, изнемогающее от зноя, уже не сквозит, не синеет прозрачно, как весной, оно — тоже отяжелело и словно слегка поблекло.
Реют стрекозы. Звенят в воздухе блестящие, точно отлитые из стекла узорные лесные мухи. Кони отмахиваются гривами и хвостами от настырных оводов. Щебечут, хлопочут над подрастающим потомством своим птицы. Телега с высокими бортами, набитая сеном и снедью, что везут в подарок родне, тарахтит и кренится на выбоинах разъезженной, колеистой дороги. Лето.
Маша полулежит, хватаясь от толчков за тележную грядку. Ойкает, восклицает, оглядывая дремотные в зное пышные рощи и луга, речку, что с легким журчанием жмурится под солнцем.
— Хорошо-то как!
Иван робел везти молодую в дом двоюродника. Маша настояла сама. Да и мать подталкивала:
— Свези, свези! Родичи как-никак! Пущай деток посмотрит!
Иван оглядывает окоем, изредка, подымая кнут, грозит пристяжной.
Думает: как-то покажет молодой жене крестьянская изба Лутонина после боярского терема Тормасовых? (Хоть и не пышного, и не богатого вовсе, а — все же!) Зря он боится, и стыдится зря. Хлебнувшие лиха ростовские переселенцы в Радонеже хоть и осильнели, и обустроились на Москве, ведают, почем хлеб. Да и пример Сергия, который сам шьет, пашет и тачает сапоги, будучи самым почитаемым мужем Московского княжества (а ведь Сергий свой, ихний, ростовчанин, из прежних великих бояр, с коими Тормасовым и знаться была честь великая!), пример этот непрестанно перед глазами, и для всех. В иную пору заленившемуся боярскому дитю бросят: «На игумена Сергия погляди!» И тот, сдержавши ворчание, отправляется чистить коней или прибирать упряжь… Конечно, люди разны, но Маша Тормасова не избалована была.
Лутоня встретил их смертно усталый, с покоса (неделю ночами почти не спал), у Моти и у той синие круги под глазами, но оба были веселы — справились!
— Погоды стояли дивные, — сказывал брат. — Из утра скосишь, раз переворошишь, и к пабедью клади в копны!
— Давеча с копны пал! — подсказывала Мотя. Сияя, оглядывала супруга своего. — Думала, убилси! Подбегаю, сердце пало, а он спит! Оба-то и хохотали потом!
Дети пищали, лезли на колени к Маше, сразу признав ее за свою. В избе был полный непоряд, но скоро, в четверо рук, жонки вымели, выскоблили, прибрали все до прежнего блеска. Малышня мешалась под ногами, а старший уже ковылял с ведрами, кряхтел, по-взрослому сдвигая светлые бровки.
— Не ведаю, как кого и звать! — признался Иван вполголоса Маше.
Впрочем, Мотя тотчас сама стала казать гостье детей:
— Старшенький у нас Носырь. Носырем назвали так-то, а по-крестильному Паша. Ета девка Нюнка, помощница уже, с малым возитсе! Трудно назвали-то, как-ось Нюнку поп назвал? — отнеслась она к Лутоне.
— Неонилой!
— Вот, как-то так! И не выговорить сразу-то! Маленький — Игоша, Игнат. Ну а тот в зыбке — Обакун! Цетверо! Еще девоньку надо родить! И парняков нехудо!
— Трое! — возразил Иван.
— Трое! — подхватила Мотя, сияя материнскою гордостью. — Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — полный сын! Вота! Ратного нахождения не было б только!
— Нынче некому! — успокоил Иван. — Мамая, вишь, и того разбили!
Пока бабы наводили порядню в избе, мужики вышли на вольный дух, разлеглись на травке. Звенели насекомые, какая-то резвая птица, замолкшая было, снова начала свое «фьють-фьюить» над самою головою.
— Прости, Лутоня, нынче не мог тебе помочь с покосом-то! Новый митрополит приехал, я из владычной волости и не вылезал почитай!
— Знаю! Сами справились! С таких сенов да при таких погодах — грех было не успеть! Трава добра ныне: прокос прошел, вот те и копна! — Лутоня говорил важно, по-мужицки, а сам сиял, глядел в небо, закинув руки за голову, покусывая сладкую травинку: