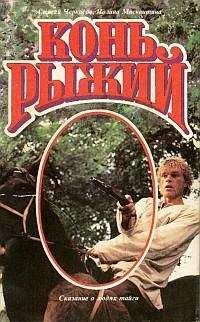Василий с остервенением матерился в адрес всех проклятых политиков в мире, от которых житья нету; а ему, Василию, надо свободно жить, хорошо зарабатывать, и чтоб ни одна тварь не лезла к нему с политикой.
– Понимаете такое или нет? – наседал он на Ноя. – Обрыдла мне вся эта ваша музыка; осточертела на веки веков. Вот жду: как откроется железная дорога на Владивосток, дня терять не буду. Продам свою пару коней, катану к морю и на корабль матросом, чтоб смыться навсегда из России. Ко всем свиньям ее, потаскуху. Заполитиканилась, стерва. Пусть ее сжирают с потрохами хоть эсеры, хоть большевики, хоть чехи или французы!
Ной таращился на Василия, не зная, что сказать: к подобному разговору он не подготовился. Понятно, в сердцах чего человек не скажет, да еще русский! И бога наматюгает, и богородицу присовокупит, а все из-за мозоли на левой пятке, так ее перетак!
– Это вы все со зла, Василий Дмитрич, оговорили себя, – степенно заметил Ной. – У вас хорошая жена, ребенок, а так и…
– Хрен с луком! – оборвал Василий. – Нет у меня ни жены, ни ребенка. Как? Да очень просто, господин хорунжий. Воровскую девку выиграл в карты. Или не знаете, как режутся в карты? Дай боже! Я и до фронта играл на Каче. Ну, а как приехал, срезался с одним вором в Николаевке. Продулся он в пух-прах, а потом на банк девку свою поставил. Лизка-то красивая, видели? Бац, и выиграл! Сам того не ждал. По праву выигрыша мог убить ее – это в законе воров. Если кого проиграют, амба! А я проявил благородство, в дом привел. Ладно бы, да у нее, оказывается, есть ребенок, которого она скрывала у своей сестры в Овсянке. Начала хныкать: «Жалостливо мне, Вася, ребеночка. Та-ак-то жа-алостливо-о!» – передразнил Василий, поддергивая пиджак на плечи. – Я и размяк. А на кой хрен с луком мне все это господское благородство, спрашивается? Махну я от всего этого, и кончено! Обдумано до последней пуговицы. Свободы хочу без белых и красных! Это вы понимаете? Или вам нравится вся эта заваруха? Валяйте! А я сыт!
Ноя беспокоила судьба Анны Дмитриевны и капитана. Как бы этот взбалмошный Василий не разговорился в таком же духе с извозчиками!..
– Если вы про Анну Дмитриевну и капитана вот так скажете кому из дружков, тогда погубите сестру. Или это вам все равно?
– Кто вам сказал, что мне все равно? – вскипел Василий. – У меня сердце кровью обливается, а что я могу поделать? А молчать я умею, не беспокойтесь. Не хуже вас, политиков. И не без ума! В логове волков овцу искать не буду. Так и так сожрут, если утащили. Капитан ли сожрет или Каргаполов какой-то с чехами, а все равно не быть в живых Анечке. Утащил он ее, чтоб любовницей сделать. Ахинея все, что он вам наговорил, гад! Еще в прошлом году он на нее глаза пялил и умощал стихами, стерва. Умный бандит, это точно. Да и Анна спала и во сне видела этого французского капитана. Он ее натаскивал говорить по-французски. Он, может, и вправду француз, а? Нет? Мало ли что Ухоздвигов! Наш Сидор печенку ему крепко прощупывал, это я тогда еще заметил. Как бы он не сожрал теперь Сидора! Ну, этого гада не жалко. А вот Анечка! Что он с нею сделает, бандюга?
Ной заверил, что Анна Дмитриевна вернется целой и невредимой; капитан-де мог взять в любовницы любую красотку из поезда Гайды; полно их там на любой вкус.
– Вы думаете, капитан работает против белых?
– Думаю так.
– Но он же белая шкура!
– Не шкура, а вывеска. Я вить тоже при звании хорунжего.
– Понимаю! – кивнул Василий. – Пожалуй, вам надо пойти к Машевскому и сестре и все обсказать им самолично. Так уж и быть, отведу. Будем тонуть за компанию!
– С чего нам тонуть? По глупости?
– Глупость ни к чему, – отмахнулся Василий, вышагивая рядом с Ноем по темной улице.
Ной внимательно приглядывался к Василию. Он-то, Ной, считал его за простака, а парень оказался с секретом. Экие завихрения в башке! Да разве можно свою землю бросить, когда народ в беде?!
Подошли к каменному дому возле горы. Высоченный заплот, глухие ворота. Василий постучался в ставень и назвал себя. Вскоре вышел хозяин: Ной узнал татарина, которого видел в застолье у Ковригиных. Василий ушел с ним и вскоре позвал Ноя в ограду. Встретили двое.
– Я – Машевский, – подошел к Ною человек, которого он мельком видел в ограде Ковригиных.
Хозяин вынес из избы фонарь «летучая мышь», и Машевский увел Ноя под навес, где стояли ломовые телеги, выездные кошевки с санями и легковой экипаж. Машевский попросил Ноя сесть в легковой экипаж и, поставив фонарь на облучок, поднял верх из черного брезента.
– Ну, что у вас? Давайте по порядку. Когда вы первый раз встретились с капитаном? – спросил Машевский, говорил он с легким акцентом, как и все поляки, не успевшие обрусеть.
Ной сказал, что познакомился с капитаном Ухоздвиговым в городе и не думал даже, чтоб впоследствии все так обернулось. Но сам капитан, оказывается, знал хорунжего Лебедя по Гатчине.
– Вы его в Гатчине не видели?
– Припоминаю: приходил он к моему дому с Дальчевским, начштаба Мотовиловым и генералом Новокрещиновым; смотрели убитых офицеров.
– Поподробнее, пожалуйста, о вашем разговоре с капитаном после происшествия у тюрьмы и о последней акции.
У Ноя была хорошая память, и он почти слово в слово рассказал о необычайном собеседнике, вывернувшем его «под пятки», и о питии коньяка из фляги. Ну, а после первой встречи, поскольку Ной не поспешил на службу, ему ничего неизвестно было о событиях в Красноярске; вечером явился к нему капитан. Тут уж Ной ничего не упустил: о странном поручении капитана, об уряднике, которого капитан не взял с собою, об аресте Анны Дмитриевны и сопровождении ее в поезд на Омск вместе с Сидором Макаровичем, припомнил дословно весь разговор на перроне до посещения вагона Гайды и после; какое получил предупреждение капитана и достал пакет с деньгами.
– В пачке не десять тысяч, говорил, а десять пятьсот. Вложил деньги, какие у меня взял взаймы.
Машевский развязал шпагат и, сняв упаковку, отдал ее Ною.
– Для меня он лицо неизвестное, – медленно проговорил Машевский. – Да и вы его не знаете!
– Про то и говорить нечего! – отозвался Ной. – Я-то считаю его серым Каином.
– Возможно и серый Каин, – согласился Машевский. – Сейчас очень сложное время. Тайну его имени мы сохраним, понятно: он увез нашего товарища. Завалить его – погибнет Анна Дмитриевна. Это совершенно ясно. Лично мне он известен по марту-апрелю прошлого года как эсер. А эсеры большие путаники, это вы должны знать по Гатчине. Вам придется поддерживать с ним связь, если он вернется сюда, в чем я сомневаюсь.
Ной подтвердил, что капитан, наверное, навсегда уехал.
– Понятно, – кивнул Машевский, о чем-то призадумавшись, и спросил: – Что вы решили с квартирою?
– Хотел бы переехать к Ковригиным, да вот у Василия Дмитрича, как послушал, завихрения имеются.
– Успел и вам высказать свою программу неучастия? Не обращайте внимания. Такие завихрения у многих бывают в трудные моменты, но человек он не из породы провокаторов, хотя и картежник. Это мы все знаем. Опасным был Пискунов.
– Должно, Сидор Макарович возлетит в скорости на небеса в рай господний.
– Не думаю! Тайну этого контрразведчика капитана не так-то просто разгадать. Он мог убрать Пискунова здесь. Но не сделал этого. Значит, он ему еще нужен. Подождем. Я вам отсчитаю пятьсот рублей, поскольку он вернул вам долг.
Ной отказался и предложил еще от себя.
– Пять тысяч николаевскими, да еще сколько-то иностранными.
– Откуда у вас такие крупные деньги? – насторожился Машевский.
– Не сказал вам: конь-то упокойного пророка при себе имел большущие деньги. С наследством поймал жеребца. Или вернее – с кладом.
По чисто казачьему соображению Ной утаил истинную сумму обнаруженных денег.
– За поддержку – большое спасибо. Нам крайне нужны деньги в данный момент, особенно иностранные. Вы не узнали товарища, с которым я встретил вас? Это – Артем Таволожин. Вчера приплыл из Минусинска на лодке, простыл на Енисее, вот мы и пошли в баню.
Когда Ной вернулся в дом миллионщицы Юсковой, Дуни и след простыл. Отыскался ее сокомпанеец, Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов, как сообщила Аглая, и они ушли в гостиницу «Метрополь». Скатертью дорожка!
На другой день Ной переехал со всем своим добром на квартиру в дом Ковригиных.
Страх и смерть топтали улицы города чужеземными ботинками, позвякивали казачьими шпорами и шашками, хрустели офицерскими сапогами, горланили медными глотками.
Губернская тюрьма, ежедневно пополняясь новыми узниками, глухо и тяжко стонала сквозь стальные решетки:
«Друг мой, товарищ, где ты? Жив ли, или расстреляли тебя в подвалах контрразведки?»
С вечера до утра по улицам города ездили конные казаки особого эскадрона хорунжего Лебедя и носились на мотоциклах чешские патрули. Жители онемевших домов с тревогою прислушивались к цоканью копыт, лютому урчанию мотоциклов и окрикам на чужом языке.